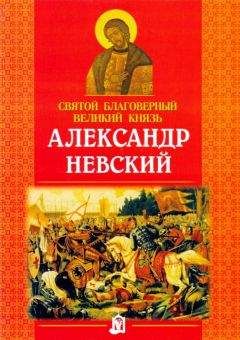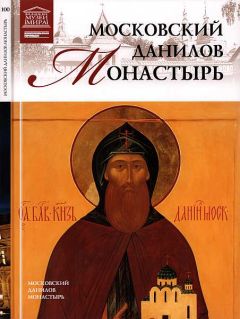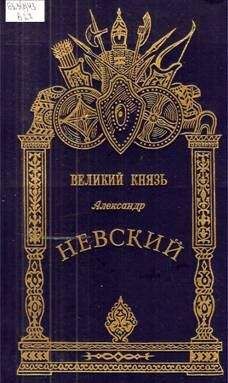Адриан Гилл - Поцелуй богов
Когда он наконец взглянул на часы, стрелки показывали шесть и в комнате сгустились мрачные сумерки. Стол был завален бумагой, но в мусорной корзине ни листочка. Он пошел в кино, посмотрел приключенческий фильм, съел кебаб, выпил пару банок пива, вернулся домой, лег в кровать, начал было мастурбировать, заснул и проснулся в слезах.
Жизнь не станет нисколько лучше, подумал он, придя на работу через неделю. Ему по-прежнему требовались все душевные силы, чтобы по утрам вылезать из постели. Магазин вызывал ненависть. Возня на полках, походы на склад, упаковка и треньканье кассы навевали тоску и только усиливали неприятие. День отмерялся чашками кофе, «Твиксом», пустой болтовней и тремя ненавистными тенорами: громким Клива, простодушным спаниеля и переменчивым Дороти, которая ради подруги играла то в злого копа, то в доброго. Досаждали глупые клиенты; нерешительные покупатели подарков; культурные, потрепанные девицы, которые брали списки букеровских номинантов, чтобы казаться интересными и привлекательными, несмотря на обвислые титьки; воскресные пары, которые читали два раза в году, но накупали охапки похожих на бикини книг в мягких обложках — чем меньше материала, тем лучше; заглядывающие в замочные скважины откровений шумные ценители биографий; сердитые, смахивающие на кулинарные тома шныряльщицы по кладовым, которые искали любовное чтиво для постели, чтобы найти в нем бумажную теплоту и радушие вместо настоящих чувств; самостоятельные чудики, ражие до авторов, у которых больше букв после фамилии, чем в ней самой — кто им скажет, что они думают об отсутствующих мужчинах или агрессивных женщинах, или любви, или мастурбации, или персидских кошках, или замысловатых тротуарах, или мягкой мебели, или состязаниях, а на самом деле — о книгах, которые говорят только о себе, себе, себе; листатели художественных альбомов, слишком сопливые и закомплексованные, чтобы решиться купить ежемесячное издание «Бритого лобка». Джон презирал их всех, но еще больше себя за то, что обслуживал их культурной требухой.
Он сидел за кассой и листал газету. Симпатичная женщина, всеми силами держащаяся за хрупкий брак и нашедшая приманку в детской, шлепнула на прилавок очередной недельный выпуск из бесконечной серии в твердом переплете.
— Извините, вы это читали?
— Да, — ответил Джон.
Такова была его политика: отвечать «да», если его спрашивали, читал он те или иные книги или нет. Поскольку очень маловероятно, чтобы их прочитали покупатели или запомнили, о чем в них написано.
— И это настолько хорошо, как говорят рецензенты?
Рецензенты, как правило, говорили плохо. «Необоснованно гадко», «непробиваемо претенциозно», «скучно до судорог в заду», «банка с сиропом и спермой» — таковы были нормальные эпитеты, которые издатели малевали на мягких обложках. Но в данном случае обзор был выполнен добросовестно — с кучей фотографий почти симпатичного автора, и это служило благоприятным знаком.
— Мне кажется, рецензенты были откровенны, — ответил он.
— Значит, вы рекомендуете?
— Это зависит от вашего вкуса. — Джон перевернул мерзкий том. — Вам нравятся рассуждения об одиноких исканиях женщин в узилище брака без любви на равнинах Норфолка? Написано напористо, с особым вниманием к деталям.
— Не знаю. — Женщина выглядела растерянной. — Она не слишком сексуальна?
— Я бы сказал, скорее эротична, чем сексуальна. — Джон посмотрел на пыльную обложку. — И конечно, неспешное движение к ужасной, трагичной развязке.
— Так она хорошая?
— Опять-таки зависит от вашего вкуса. Вы предпочитаете трагедию в зачине или в развязке?
— Наверное, в развязке.
— И я тоже так полагаю. Особенно если трагедия неизбежна.
— Я ее беру. Спасибо. Вы мне очень помогли.
— Не стоит. Семнадцать фунтов девяносто пять пенсов. Поделитесь со мной впечатлениями.
Женщина покосилась на Джона.
— Вы правда хотите?
— Конечно.
— Тогда до следующей недели.
Джон отдал сдачу и снова уставился в газету.
— Черт! Что ты за мерзкая жаба!
— Доброе утро, дорогая. — Джон так и не поднял глаз. В его упоении собственной депрессией времени хватало лишь на то, чтобы ощущать себя несчастным, а на остальное было начхать. Единственной уступкой в общении стала ирония в отношении незнакомых и сарказм для друзей.
— Я думала, меня стошнит. — Петра раздраженно пихнула кулаком в газету. — Ты со всеми своими клиентами так разговариваешь?
— Нет, только женского пола.
— Господи! Мне показалось, ты сейчас перегнешься через прилавок и присосешься к вырезу на ее платье.
— Просто старался помочь. Покупатели прежде всего. Как идет фотографический бизнес?
— Ты не забыл, сегодня день рождения Дороти? — прошептала Петра.
— Не дали забыть. Пускали по кругу шапку. У меня напряженка с деньгами, так что взял десятку из кассы.
— Десятку?
— Не волнуйся. В шапку я кинул только пятерку. И Клив ей что-то купил. Подозреваю, книгу. Еще подарим открытку. Не с нашего склада, но такую же мерзкую, как продаем мы. Орангутанг на ней говорит: «Вижу, какая ты грязная, и вот тебе в зад банан» или что-нибудь в этом роде. Мы все подписались, и в кофейный перерыв предстоят короткие, но жаркие возлияния с тортом. Морковным. Клив считает, что такой больше всего подходит к ягодицам именинницы.
— Господи, ты когда-нибудь уймешься? Помнишь о сегодняшнем ужине?
— Как не помнить. Не удается избавиться от навязчивого видения осклизлых сандвичей, мастикообразной семги с холодной вареной картошкой без фасоли, потому что фасоль мне никогда не достается, и нескольких кувшинов вина, которое не удалось сбыть ни в одном другом месте. И снова торт. На этот раз коричневый — наверное, шоколадный или кофейный. Точнее не определить. Он покрыт тонкой коркой парафина и слюны, после того как именинница пьяно фыркнет на свечи. И все это будет проистекать в непревзойденном неудобстве третьего мира, третьего класса, в псевдожелезнодорожном вагоне во многих милях от центра, у обомшелых ворот Ноттинг-Хилла, где ни в жизни не взять такси и откуда, матерясь и задыхаясь, а в случае с Дороти еще и в слезах, придется идти пешком. Нет, я совсем не забыл.
— Хорошо. Ты намерен переодеться?
— Во что? Или, быть может, в кого?
— Не важно. У меня мало времени. Хочу показать тебе подарок, который мы ей припасли. — Петра стрельнула глазами вокруг и с плотоядной ухмылкой извлекла из сумки коробку. Она сдвинула крышку, Джон наклонился и уставился на отделенный от тела пенис — розовый, огромный, невероятное неудобство для любого портного.
— По крайней мере этого у нее нет точно.
— Скажи, писк?
— Писк — это первый дюйм, а дальше, наверное, визг, вопль, вой, переходящий в стон, скулеж и наконец невнятное бормотание. Ты что, серьезно собираешься его дарить? Не говоря уже о безвкусице, он отвратителен и небезопасен. Разве на нем нет бирки «Не для внутреннего употребления»?
— Не такой уж он большой. Есть намного здоровее.
— Те, которые здоровее, дорогая, это гробики для маленьких собачек, или замысловатые протезы для калек, или платформы на колесах для Марди-Гра[33]. Ты бы себе его вставила?
— Не знаю. Наверное, при определенных обстоятельствах. У него пять скоростей.
— На четыре больше, чем у меня. Он ей не понравится.
— Понравится. Мне лучше знать. Она моя подруга. — Петра уложила пенис в коробку. — Кроме того, у меня есть кое-что еще. Сюрприз.
— Что такое?
— Потерпи, увидишь. И постарайся быть паинькой. У Дороти трудный период. Она по-настоящему несчастна. — Петра подчеркнула голосом «по-настоящему», чтобы стало понятно, насколько истинное горе отличается от его мужского эрзаца.
Дороти действительно ужасно страдала. Психопат-штукатур бросил ее именно в тот момент, когда Джона застукали с Ли. Поэтому все внимание досталось Петре, а Дороти, переживая утрату, тихо истекала кровью в уголке.
Исчезновению безумного хроника обрадовались все, кроме Дороти. Она его не любила и попеременно то столбенела, то дурела от него, но по крайней мере имела дружка, а теперь он убежал с таксистом. И это рассыпало в прах ее хрупкую уверенность в себе и одновременно усилило аппетит.
Дороти всегда подчинялась Петре и поэтому считалась ее лучшей подругой, но теперь, обезмужчиненная, напрочь нарушила соотношение, почти полностью изменив породу. Она стала полумифической — одной из тех почти невидимых, смахивающих на привидения девушек, которые сумбурно налетают на поздние супермаркеты и покупают поддончик какого-нибудь салата, маленькую питу, бутылку Пино Грижио и «Ивнинг стэндард». Они прозрачные, сказочные люди, существа без веса и субстанции, со слабым ароматом рождественской туалетной воды. Бледные, сероватые создания, с опущенными уголками губ и затравленными, без всякого выражения глазами. Они дематериализуются все больше, пока не достигают тридцати, после чего от них остается только дешевое пальто из магазина оптовой распродажи с оторванной пуговицей и груда колготок со спущенными петлями. Они коротают вечность, невидимо стеная на автобусных остановках и у выходов из кино.