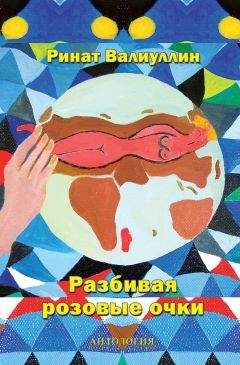Наталья Смирнова - Москва Нуар. Город исковерканных утопий
— «Декамерон».
— Во! Говорил, у родителей натырил. Вслух читает, а сам ляжкой жмется… А воняет, Ряба, от него сладко, одеколоном — полфлакона на себя выливал, чтобы я дала. Я даже думала — может, дать? Чего парню маяться? Но решила — сперва Месропычу… Чтоб он меня это, распечатал, хи-хи-хи! А потом — поглядим-посмотрим! Кобельков много, правда, Полканище? — Буратина опять чешет псу загривок. — Я же блядь! Я бы и Полкану дала — да исцарапает животное, что с него взять, хи-хи-хи!
Рябец помнил, очень хорошо помнил. Помнил, как Буратина, единственная в классе на зависть другим девчонкам и к вящему недовольству Пичуги — их классной — носила ажурные колготки с рисунком, от которого у Рябы начиналось сердцебиение.
— А помнишь, Ряба, в той книжке историю, как одна ему свидание назначила в своем доме? Он приходит, а служанка: типа обожди пока, муж там… А сама эта с мужиком развлекалась. Этот-то на холоде всю ночь! Прямо как ты! Хи-хи-хи! А потом отомстил ей — на крышу, что ли, загнал… А?
Буратина берет бутылку и одним глотком допивает.
— Фу-у-у… Ладно, Ряба, один хер — ничего не воротишь… Ни Болта, ни Месропыча, ни Лидуху… Остальных не помню… — Буратина валится вдруг, сперва на бок, потом ничком. — А тебе, Ряба, не дам. Хотела дать — да не дам… Спите, детки мои ненаглядные…
Руки ее гладят жесткую траву, стихают.
У Рябца болит голова. Он закрывает глаза. Надо бы вставать, поздно — не ночевать же здесь, на костях ее детей. Или врет, полоумная? Хотя нет, что-то и разумно говорила. Странный день — словно жизнь. А все газета. Мать не сдала, когда следак приходил. Он спросил: может, кто ссорился с Месроповым или с Болтянским, а то с Буратаевой? Из класса, может, кто мстил? Или просто по пьяни-хулигани? Всех выспрашивал следователь — к кому-то приходил, кого вызывал… Потом решил: случайность — окурок. И то — сушь какая стояла! Как теперь. А то и суше. Торф горел, точно. Дым. Люди кашляли.
Треск, боль, горячо! Рябец раскрывает глаза — Буратина, рука задрана, в руке бутылка — хищный отблеск луны на разбитых краях. Убьет! Он вбок, Буратина падает — скрежет — розочка вонзается в песок.
— Сука, — свистит он, вцепляясь руками в ее плечи, прижимая ее к земле. — Убить хотела?
Буратина молчит, мгновение ее спина под руками Рябца напряжена, вдруг обмякает. Он упирается в нее коленями, переместив руки на шею. Кровь капает черными каплями на ее волосы. Пахнет свежей мочой. Нащупав щитовидный хрящ, он давит, давит его с обеих сторон, живо представив себе анатомию тихий свист, как из велосипедной шины, и молчок. Тень Полкана в стороне виляет хвостом, поскуливает: Надя, Надя!
* * *— Ты не читал «Декамерон»?! — воскликнул Болтянский.
Болтянского Рябец не любил: что толстый — полбеды, вот руки маленькие, липкие, ногти ухоженные — это да. Ко всему, Болтянский таскал в школу порнуху — тусклые, многажды переснятые фотографии. Пышногрудые девки с сероватыми телесами (следствие пересъемок) оседлывали мускулистых мужиков. Или же подставляли пухлые зады. Или же растягивали губы. Стоило взглянуть, и точно по полу растаскали клубничный джем.
Болтянский показывал фотки из рук, держал цепко розовыми пальчиками. Если для других просмотры стали привычным развлечением, то для Рябца иначе. Липкое ощущение переродилось в ужас женского прикосновения, будь то рука, локоток, нечаянная грудь или невинные волосы. Даже материнская ласка, по счастью, крайне редкая, отвращала: стоило подвыпившей Прасковье Федоровне провести рукой по его волосам, нутро сжималось и тошнилось.
— А еще «Озорные рассказы». Это Бальзак, — проповедовал Болтянский, они шли из школы.
— Дашь почитать?
— Завтра принесу. «Декамерон» принесу, Бальзака — нет. Бальзак у нас в собрании — предки заметят — не велят книги давать. Да «Декамерон» лучше Бальзака. У Бальзака один прикольный рассказ, как он женщиной переоделся, чтобы ее выебать. Ну в смысле — подружиться сперва, то да се, а потом — выебать. А в остальном — скука. «Декамерон» интереснее.
«Декамерон» Болтянский принес — толстый синий том с изящной вязью названия, и срок объявил — две недели. Рябец полистал желтоватые страницы и отложил. Начинались выпускные экзамены.
* * *— Ты прикинь, только с нее слез — звонок! Она к двери, кровищу оттирает, перепуганная — кто там? А Болтянский: это я, Надь. Она: о, черт! чего тебе?! А он: пойдем погуляем? Ха-ха-ха! — Месропов чуть не валится от хохота. — Не, ты прикинь: погуляем!
— А она что? — сухими губами Рябец. Они с Месроповым стоят во дворе школы. Выпускной вечер начнется через полчаса, все уж на взводе, уже вполпьяна делятся новостями.
— А что она — чуть со смеху не покатилась. Ну, я сзади подкрался, пока она с ним через дверь говорит, и вдул по первое число! Видел бы Болт, чем мы в десяти сантиметрах от него занимаемся!
Месропов еще полгода назад поклялся, что перед выпускным вечером «сломает целку» какой-нибудь из одноклассниц. Красавец жгучий, волоокий, девочки от него без ума.
— Только кончил, он опять: Надь, а Надь (Месропов передразнил скрипучий голос Болтянского), пойдем погуляем… Ну я дверь распахнул!.. как был, без трусов, в майке! И гондон в руке болтается — лови! Болт глаза выпучил и бежать! Ха-ха-ха!
— А она? — быстро дышит Рябец.
— Кто? Надька? Надька хороша, Ряба, хороша — подмахивает как надо! Полдня сегодня с ней кувыркались, фу-у-у! Чуть на ногах стою… А то едем завтра в Серебряный Бор, Ряба? У Надьки подруга Лидуха — маленькая, а титьки во-от такие! Я бы с Лидухой, но Надька… Там хорошо, в Бору. Не был? Кустов — завались!.. «И под каждым ей кустом был готов и стол и дом!..» Ха-ха-ха!
Подошли еще одноклассники, и Месропов принялся пересказывать свое приключение.
— А Болт мне «Декамерон» дал почитать, — говорит Рябец, когда тот закончил.
— Что-о-о? «Де-ка-ме-рон»? Ну, ты даешь! Детский сад этот «Декамерон». Ты «Луку Мудищева» слышал? Весник исполняет. «Весь род Мудищевых был древний, имел он вотчины, деревни и пребольшие елдаки!..» Приходи, поставлю! «Декамерон», ха! Детский сад, Ряба, детский сад!
— Все от воображения зависит, — веско вставляет интеллектуал Трегубов. — Иных и замочная скважина возбудит… А по мне «Декамерон» очень ничего. Кватроченто, пир во время чумы… Италия! Это не Русь. Там не девушки — синьорины! Не сосны — пинии!..
Трегубов знает, что говорит: в свои неполные семнадцать он единственный в классе бывал за границей, как раз в Италии жил. Отец его работал в советском консульстве в Риме.
— Пинии? Это что-то типа минета? — Месропов.
— Нет, амиго мио — это средиземноморская сосна. Небо — чистейшая лазурь! Море! Солнце!
О sole mio
sta 'nfronte a te!
О sole, о sole mio
sta 'nfronte a te!
sta 'nfro-o-o-onte a te-e-e-e! — поет Трегубов, срываясь на фальцет.
— Карузо недорезанный! — с уважением Месропов.
Во двор входит Болтянский в черном костюме, узком черном галстуке. Черные волосы зачесаны назад, намазаны, блестят. Увидев Месропова, чуть сбивается с шага, щеки расцветают алыми пятнами.
— Эй, пиния, — кричит кто-то, — пойдем, погуляем?!
Дружный хохот.
* * *На ночь Рябец в школе не остался, получил аттестат, ушел. Когда спускался из актового зала, его догнал Болтянский.
— Уходишь?
— Тебе-то что?
— На танцы не останешься?
— В гробу видал.
— Книжку когда вернешь? Родители спрашивали. Прочел?
— Не до конца — экзамены. Завтра дочитаю, я быстро.
Мимо поднимается Буратина, — напудренные щечки, высокие каблучки, короткая юбчонка, кружевные колготки, и по всему подшофе — странно хихикает. Поравнялась с приятелями — Болтянский облизывается. Еще три ступеньки вверх и останавливается.
— Ряба, выпить хочешь? Ребята в спортзале, у них осталось.
— Не, я домой. Голова болит.
Рябец глаз не оторвет от Буратининых ног. Она улыбается.
— Да-а-амо-о-й… — тянет насмешливо. — К ма-амке… А то приезжай завтра в Серебряный Бор. На Третий пляж. Знаешь? Мы купаться, часов в пять-шесть, как проснемся. У подружки моей, Лиды, там дача, предки сваливают — так что…
— Хорошо, — хрипит Рябец, и вниз.
— А ты что? — слышит насмешливое, обращенное к Болтянскому. — Гулять хочешь? Хи-хи-хи!
* * *Болтянский позвонил часа в четыре:
— Едешь? В Серебряный Бор. Забыл?
— Далеко.
— Да чего — можно остаться. У Надькиной подруги там дача.
— Не знаю, может, и поеду…
— «Декамерона» возьми, мне предки плешь проели.
— Ладно, — Рябец кладет трубку.
Следом неожиданность: Буратина! Звонит! За все десять лет, что они проучились в одном классе, это впервые!
— Ряба, привет! — голос сдавленный, будто слезы сдерживает. — В Серебряный Бор поедешь? Меня возьми.