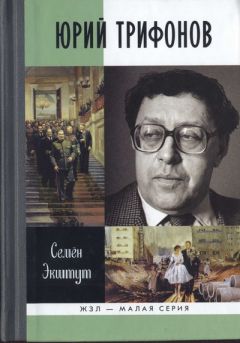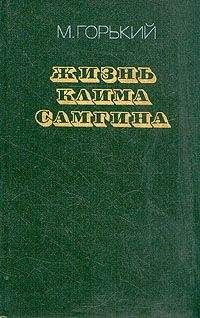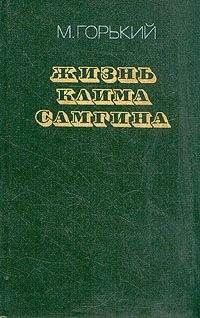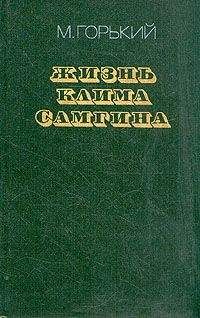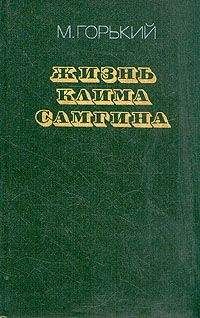Юрий Нагибин - Московская книга
Мне чуть полегчало.
— Покровка скоро?
Она вдруг рассердилась:
— Еще чего!.. Ты куда едешь?
На какие-то мгновения мой скромный мозговой аппарат выключился, бессильный справиться со столь противоречивой информацией: я действительно еду на двадцать первом, а он идет вовсе не туда, куда следует. Да я же ехал сегодня этим трамваем от Армянского до площади Ногина, не мог же он за вечер изменить маршрут?..
— Тебе в другую сторону, — сочувственно сказал какой-то пассажир.
Боже мой, куда же я заехал?..
И, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, возник мост, а под ним река, черная, маслянистая, тускло отблескивающая. Река не принадлежала моему привычью. Чтобы оказаться на реке, нужны были необыкновенные события: праздничная иллюминация, когда меня водили на Москву-реку любоваться МОГЭСом, украшенным лампочками, или весенний паводок, когда по вспухшей воде, ворочаясь, плыли грязные льдины и люди почтительно говорили: «Можайский лед пошел». От моего дома до реки было так же далеко, как от паводка до иллюминации.
Я толком не знаю, какая то была река, наверное, Яуза. Она не показалась мне широкой, а ведь тогда воображение преувеличивало все страшное. А река — это очень страшно. Это рубеж, за ней другой город, незнакомый и опасный. Я хотел спрыгнуть на ходу, но кондукторша и сочувствующий пассажир, будто догадавшись о моем намерении, успели схватить меня за плечи. Кондукторша ругалась на чем свет стоит и грозила отправить меня в милицию, а сочувствующий человек мягко уговаривал дождаться остановки и пересесть на встречный трамвай. Хорошо ему рассуждать, а где возьмешь другой гривенник?
Опять бежали глухие, слепые дома, черные подворотни, редкие фонари, вывески, на которых ничего нельзя разобрать, остановки все не было. И я решил уже кинуться в тьму булыжной мостовой, как в омут, когда трамвай вдруг резко, трескуче затормозил, барабаня решеткой по камням.
Я сошел на пустынную остановку посреди совершенно пустой, прямой и бесконечной в оба конца улицы и побежал назад. Шаги мои гулко отдавались в тишине. Я бежал и плакал. Прямо-таки ревел от страха, обиды и тоски по дому. Миновал мост, стараясь не глядеть на маслянистую черную воду, и увидел впереди женщину. Непонятно, откуда она появилась, будто из-под земли выросла. Я сразу перестал плакать, прибавил ходу и нагнал женщину. Она шла, громко разговаривая сама с собой, вернее, с незримым собеседником:
— Подумаешь!.. Испугал!.. Возьму и уйду… И пожалуйста… Это уж мое дело… Вот и уйду… И ничего…
Услышав мои шаги, она резко повернулась:
— Ты чего тут?..
— Я заблудился. Мне в Армянский надо…
— Это где ж такое? — по-доброму всполошилась женщина. — Что-то не слыхала.
— Покровка… Маросейка…
— Мать честная!.. Куда ж тебя занесло!
— Я трамвай перепутал.
— Надо же! — Женщина рассмеялась звонким, молодым смехом.
Вначале она показалась мне старой. Лицо у нее было мятое, тени под глазами. А сейчас я увидел, что она совсем молодая, только усталая, да и размазалась тушь с ресниц, затенив подглазья и скулы. Она наклонилась, и я почувствовал запах вина.
— Ты плакал? — спросила женщина. — Брось!.. Ничто в мире слезиночки не стоит.
— А вы сами плакали, — сказал я.
— Луку надышалась!.. Ну и плевать!.. Пошли!.. «Ах, Коля, грудь больно, любила — довольно…» — запела она хрипловато, но мелодично. — «Сире-ень цвете-от, не пла-ачь приде-от…» Чего же ты? Подпевай. Или не знаешь?
Мне ли не знать этой песни, нежного и задорного гимна золотых акуловских дней! Не замолкая, звучала она в дачном саду, на реке, в поле, по дороге в лес…
— Знаю, — сказал я, — да нельзя мне.
— Это почему же? Петь каждому можно.
— Слуха совсем нет.
— Беда! Не люблю, кто не поет. А ты бы хоть сам с собой пел, — попросила она.
— Я пою. Сам с собой я всегда пою!
— Ну и правильно! А меня стесняться нечего. Подпевай. «Си-ре-ень цвете-от!..» А, черт!..
Она сильно оступилась, еще раз оступилась, захромала и остановилась, как-то странно согнув ногу:
— Каблук, будь он неладен!..
У нее сломался каблук. Она попыталась приладить его, опершись о мое плечо, но ничего не получилось. Тогда она совсем оторвала каблук и отшвырнула прочь:
— Вот так всегда у меня! Только чего заладится… Плевать, как-нибудь дотрюхаем.
Мы заковыляли дальше, и тут наперерез нам из переулка вышел пожилой человек в прорезиненном плаще, сапогах и суконной фуражке.
— Эй, дядя! — окликнула его женщина. — Тебя-то и надо! Проводи мальчонку!
Человек остановился. Под крепко пахнущим резиной плащом виднелась военная гимнастерка. Сапоги на нем были старого фасона: высокие, по самую коленную чашечку, и в обтяжку, что подчеркивало кривизну тонких ног.
— Нечего ему по улицам шляться. Спать надо!
— Да заблудился он. Ему на Покровку, — пояснила женщина. — Доведешь?.. — Она наклонилась ко мне, и я снова почувствовал конфетный запах вина. — Ну, прощай!.. А смешно — сколько лет пройдет, ты вырастешь, станешь большим и никогда больше меня не увидишь. И я тебя не увижу. Понимаешь? Мы никогда, никогда с тобой не увидимся. Ни-ко-гда!..
Она выпрямилась и, прихрамывая, пошла через дорогу. Сам не знаю почему, мне вдруг смертельно жаль стало, что мы с ней никогда не увидимся. Вроде бы что тут такого: каждый день встречаешь уйму людей, с которыми тоже никогда больше не увидишься, и дела до них нет, а вот сейчас мне реветь хотелось оттого, что я больше не увижу этой женщины…
— «Проводи», «проводи»! — сердито ворчал человек. — А спросила, куда я иду?.. Мне в другую сторону! — И не в лад своим словам он жестко взял меня за руку.
— Пустите!
— Отставить разговорчики!.. Кто она тебе?
— Никто! — буркнул я.
— Это что еще такое? — загремел он. — «Никто»!.. Каждый есть кто-нибудь. «Никто» — ишь фендрик!..
Я не выносил разносов от посторонних людей, но что-то в его тоне заставило меня прикусить язык. Я вовсе не боялся его и знал, что он меня не бросит, просто увидел этого человека не в суконном картузе, а в буденовке, и не в ночном московском переулке, а в ковыльной степи…
Он здорово разбирался в местности. Мы завернули в проходной двор, затем прошли другим двором, уже не проходным, но с лазом в деревянном заборе, возле таинственно поблескивающей помойки, и вскоре, будто дуновением тепла, я ощутил близость родного предела. Только шли мы как-то странно: сделаем шагов десять и постоим. Вначале я думал, что это нужно ему для выбора направления. Но когда улица круто забрала в гору, человек выпустил мою руку.
— Дальше не пойду. Мотор не тянет. — Он постучал по груди, где сердце. — Ступай прямо, никуда не сворачивай, выйдешь к Армянскому. Не боишься?
— Нет! — сказал я по-солдатски готовно и неискренне.
— Молодец! — Голос его потеплел. — Терпеть не люблю трусов. Ну, бывай!
Он повернулся и зашагал прочь на своих гнутых ногах кавалериста.
И опять стало грустно. Еще один человек приблизился ко мне и скрылся навсегда. От моей руки, которую он держал, пахло табаком, а от плеча — той женщиной, ее одеколоном и пудрой. Два человека из ночи оставили на мне свои метки. Но завтра слабые запахи испарятся. Я понюхал свое плечо, втянул табачной горечи от пальцев, вздохнул и пошел совсем не туда, куда меня направил бывший военный.
Почему я это сделал? От растерянности, топографического кретинизма? Нет, тут что-то другое, более сложное. Может, мною двигало неосознанное сожаление, что все так просто разрешилось? Незамысловатость спасения унижала остроту переживаний? Или же я не исчерпал ночи? Мое движение в сторону от дома не было осознанным, я словно играл сам с собою в какую-то запретную для сознания игру. Поднявшись на кручу, где стоял монастырь, освещенный запутавшейся в ветвях рослых вязов луной, я вернул себе холодок опасности. Куда идти? Вдоль монастырской стены? Но это явно уведет меня прочь от дома. Продолжать путь? Наверняка заблудишься. Вернуться туда, где мы расстались с моим провожатым?.. И тут я услышал свист.
С той же стороны, откуда пришел я, поднимался человек. Он был еще далеко от меня, но его длиннющая тень подбиралась к моим ногам и вдруг исчезла, — монастырская стена отрезала прохожего от луны.
— Kolossal! — восторгался человек. — Wunderbar!.. О, du geheimnibvolles Asien!
— Дяденька, — сказал я фальшиво-нищенским голосом, какого прежде не знал за собой. — Где Покровка?
— Wen gehort diese Stimme? — удивился немец. — Wo bist du, mein Kind?
— Da bin ich! — откликнулось дитя. — Sagen Sie bitte, wo ist Pokrowka?
Как бы гордилась моя мама, из последних сил учившая меня немецкому языку, если б слышала этот непринужденный разговор! Она никогда не спрашивала меня об успехах, убежденная, что я не знаю ни бельмеса. И вот…
Читателю может показаться странным, что я так спокойно и доверчиво обратился к чужеземцу, а не стал выслеживать его как шпиона. Но Гитлер тогда еще не пришел к власти. В иностранце мы охотнее видели революционера, забастовщика, докера, чем врага.