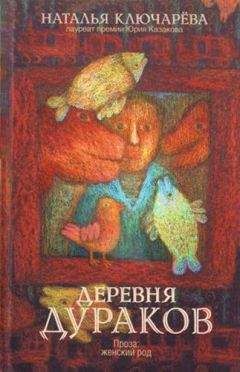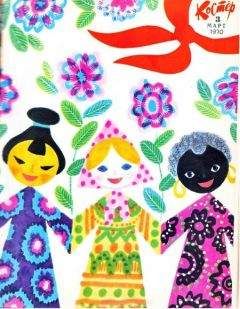Евгений Попов - Тихоходная барка "Надежда" (Рассказы)
Только я не хочу таким быть, и Саша тоже не хочет. От аналогичных, говорит, занятиев человека плешь да чахотка одолевают.
Мы с Сашей как в шестом классе сели за одну парту, так с нее же и вылетели вместе на первом курсе Технологического института, когда началась та путаница с преподавателями, когда разразилась над нами гроза и "беспрерывно гром гремел".
А все из-за Куншина. Был у нас в школе такой малый. Сын мясника с колхозного рынка. Ходил всегда в черном френче, на котором имел накладные карманы, и физиономия его уже тогда, это в восьмом-то классе, спокойно тянула лет на двадцать пять, на "с толком прожитые" двадцать пять, когда и морщины страдальческие на лбу, и под глазами пустоты синие.
А в институте у нас все математики менялись. Сначала был Аркадий Иванович, который усы носил рыжие и до беспамятства любил логарифмическую линейку и график "игрэк равняется синус эн альфа". Нас не обижал, но исчез быстро: месяца не проучил. Тогда поставили нам злого человека из Тамбова. Только-только этот человечек какой-то университет окончил. Молодой был, а уже холодный: все боялся, что мы у него невзначай те несколько лет сопрем, что нас в возрасте различают. Ух и лютовал! Ты ему "вы", а он тебе "ты". Мы его за тупость да за упрямство тамбовским волом всегда звали.
А третий долго не появлялся. Мы уж было совсем заволновались, а может, совсем пропали математические педагогические кадры. Ой беда, аи нехорошо!
Только видим, что в один прекрасный день заходит в аудиторию не кто иной, как наш старый приятель Куншин. "Давайте познакомимся, - говорит. - Я ваш новый", - говорит. И прочее, что в таких случаях полагается.
- Что за черт, - я Саше докладываю, - как же это может быть Куншин, когда Куншин в двадцатой школе два раза на второй год оставался и из болота мелкой науки, стало быть, еще не выбрался, а уж про университеты и говорить нечего.
И Саша тоже - глаза вспучил, кадык гоняет и понять ничего не может. Накатилось беспамятство на нас. Понимаем ведь, что не Куншин это. Куншин лодырь был, да еще тупой-тупой. А новый-то наш - пиджачок снял, а под пиджачком у него рубаха белая, рукава на резинках, и формул на доске, о господи, мириады, прямо больше, чем алкашей в отделении на седьмое ноября.
И с этого дня пошла наша жизнь студенческая вкривь и вкось. Ходит Куншин проклятый и учит нас дифференцировать да интегрировать. Уж и светом зеленым у нас в глазах близить стало от неведения, когда не выдержали мы, поприжали его в темном углу и спрашиваем:
— Ты Куншин или нет?
— Какой-такой, - говорит, - Куншин?
— А вот такой, обыкновенный, - говорим, - а ну-ка сними рубаху, у тебя на спине шрам должен быть.
Тот брыкаться стал. Хоть парень и крепкий был, но в несчастном беспамятстве своем стянули мы с него рубаху белую, разодрали при этом малость случайно и видим: елки-палки - есть шрам!
Вот тут-то и опешили мы:
- Так ты, стало быть, Куншин все-таки!
А он шумит, грозит. Народ криком собрал, голосом нас выдал. Отвели нас в деканат. Собрание на другой день сделали. Треугольник группы - староста, комсорг да профорг - вето на нас наложили, и полетели мы из вуза, едва крылышки расправить успели.
Да, дела. И главное, спрашивают нас и удивляются: зачем да почему скандал учинили? Может, пьяные были: тыры-мыры, тыры-пыры. Нет, вот и не пьяные. Тогда почему же? Э-э-э-э-э-э, а просто все это, дорогие товарищи, просто, как, извиняюсь, колумбово яйцо, просто они - хулиганы и лодыри. Хотели его они, понял, советского преподавателя запугать, чтоб он им быстро-ловко зачетик поставил, а только не вышло у них ничего, потому что подонки современные они. Он их, плесень...
Ну, а мы-то уж молчали. Неловко как-то признаваться было. Ах ты распроклятый Куншин, что второй, что и первый. Сотрудники сатаны.
После этого печального события стали мы думать, как нам армии избежать. Вы уж извините нас, подлецов, но больно неохота три года "ать-два" делать и "налево", "кругом", "марш" тоже. В общем, как ни крути, а у меня мать-старушка, у меня на иждивении, а я соответственно ее кормилец, а у Саши случайно чахотка появилась, даже раз кровь горлом шла, а все от недоедания и переутомления в науках.
И стали мы совслужи за семьдесят рублей в месяц минус всякое к нам уважение ввиду нежелания продолжать каким бы то ни было путем систематическое высшее образование.
И вот шли мы улочкой морозной за кислородом проклятым и что-то повеселели.
Черт с ним с морозом, когда рукавицы с шапкой есть и кровь молодая. Аи да черт с ним! Я Сашу толкнул, а он отскочил, ногой трах-тарарах по дереву, и клочья мне за шиворот - белые, колючие, холодные. "Ой, хи-хикс!" Раздовольнехонький. Тут уж я тепло больше экономить не стал. Снежок лежалый из сугроба выхватил и Саше прямо в харю. Призадумался он.
Так-то вот с шуточками и прибауточками народными добрались мы до подстанции, где газы жидкие в неограниченных количествах по безналичному расчету выдают.
Девушка там работала. Нина. Ее нехорошие люди проституткой звали, но нам такая формулировка ее поведения ой-е-ей как не нравилась. Дура-то она была, это уж точно. А все остальное от глупости: пергидроль, мушка самодельная на физии, клипсы - чего не натворишь. Так он же потом, кобель, закурит немецкую сигаретку с фильтром. "Да, вот какая-такая она стервь", - говорит, а глазоньки-то уж блядские у него, у него самого. А остальные, что слушают, что рты поразевали: "Ну-ну... Это ж нужно... Прямо тсс, как не комильфо..."
Вот убивал бы гадов таких из автомата без малейшей жалости.
Я Нинке галантно говорю:
- Здорово, полупочтеннейшая скиадрома.
А Саша губами "сип-сип-сип".
А Нинка:
- Ой, я усохну.
- Не сохни, - отвечаю, - кислород давай по безналичному для нужд.
А Саша:
— Да, э-э... девушка...
А она:
— Ой, я совсем усохну.
Кран открыла, шланг в баллон, дымится кислород. Дым белый, шип змеиный от кислорода идет, а она и не смотрит и не слушает она, на нас взирает, какие мы молодцы-петушки, Васи Теркины с мороза. И мы уже уходили, уже баллон с двух сторон за стылые ручки взяли, а она вдруг на крыльцо выбежала. Шаль набросила, рукой машет, а мне вдруг так горько стало, так больно. Думаю, пропадешь ты зазря, дура красивая, пропадешь...
Но я себя одернул, отнеся причину этой тихой грусти за счет тяжести баллона, за счет сорокаградусного мороза и вообще за счет этого чертова дня.
И тронулись дальше, захрустели по снегу. Молча идем, что-то думаем. Думающие люди-то мы, слышь? На все можем "нигил" начепить, а можем и не начепить. Это уж как нам возжелается.
Но смех-то смехом, а холод кусает, гадюка. Ручки эти будто в отрицательном пламени грели, прямо совсем отрицательно раскаленные, и, чтоб не нанести повреждения наружному кожному покрову, зашли мы погреться в гастрономический магазин, и Саша сел на баллон, чтобы не смущать народишко, который знай себе и знай снует и снует по магазину. Подходит мужичок в шапке. Одно ухо вверх, другое - вниз, как у овчарки нечистых кровей.
— Чо несете, ребята?
— А то несем, что тебе знать не положено.
— Тогда давай по рублику, что ли?
— Мы, может, сегодня масштабом выше, - закобенились мы поперву.
— Не свисти, - строго заметил мужик, и нам пришлось согласиться, что ж делать, не обижать же человека.
Саша хотел "гитлера" - емкость в 0,75 литра. "Я, видите ли, вина давно не пил. Хочу. А то все водка да водка".
Но мы с мужиком его устыдили. "Ты русский, - говорим, - или турок? Сейчас мороз, и надо водку пить, кто водку не пьет - изменник прямо идеалам".
Внял Саша. Приобрели "гуся" за два восемьдесят семь и на пять копеек закуску "хор Пятницкого", или, по-официальному, "килька маринованная". И ходу в столовую напротив, туда, где вывеска висит: "Спиртные напитки распивать строго воспрещается". Я стаканы организовал и два "лобио". Это - блюдо такое кавказское: фасоль, подливка жгучая, перец черный сверху, и все-то удовольствие стоит одиннадцать копеек.
Хватили мы по граненому, потыкали лобио, размякли, и начал мужичок свой рассказ:
- Я раньше сапожник был частный, потому что инвалид с войны. Имел коло висячего моста мастерскую - будку фанерную под заголовком "МАСТЕРСКАЯ ЗАРЕЦКОГО. МОМЕНТАЛЬНЫЙ И ПОДНЕВНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ", имел инструмент сапожный и гармонию, собственноручно вывезенную из города Берлина в сорок пятом году, когда вы, значит, на свет-то и повылазили.
После множества событий в жизни нашего общества стал я вольнодумом: на одной стене повесил портрет Хрущева, на другой - Мао Цзэдуна и любил, сев в уголок, подмигивать то тому, то другому: знай, мол, наших.
И жил я безбедно и безоблачно, пока в один прекрасный день не явилась поутру дамочка с красными губками и заплаканными глазками, и туфелечка у ей в шпилечке сломана.
Но виду я не подал. Набрал в рот гвоздей медных, голову наклонил, набычился. Ремонтирую. А вот когда уж готово все было, тут я ее и осмелился. Спрашиваю ласково: "Где же вы так туфельку подпортили?" А она и до этого мрачная была, а при словах вопросительных вдруг как зальется слезами: "Ах, все равно он негодяй, мерзавец..." Дала мне пятерку и убежала. А я-то с нее хотел один рубль поиметь...