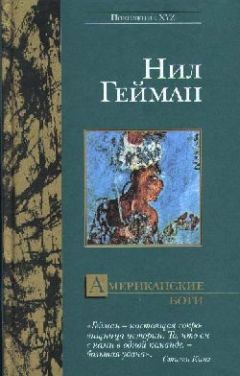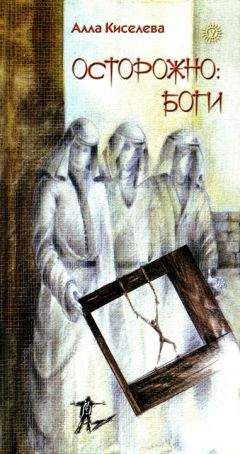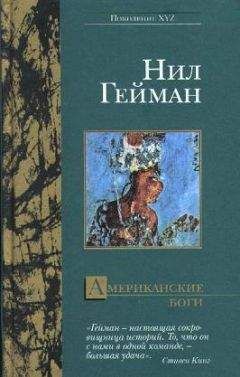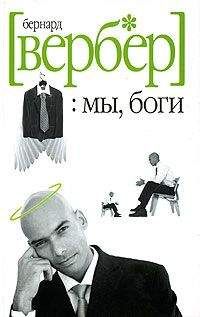Петр Проскурин - Судьба
Свиридов встал из-за шаткого стола, с ножками, сбитыми крестом, и стол от его движения несколько раз скрипнул; Свиридов наклонил голову, прислушиваясь. Он уважал жену своего крестника, она никогда не закричит, не заголосит по-бабьи, вот хотя бы припомнить тот случай, когда Захар к Маньке Поливановой бегал. Другая бы на ее месте полсела возмутила, а эта, бывало, только станет где-нибудь неподвижно, задумается, и глаза побелеют. Так, чуть-чуть, невпрогляд. А в войну что с детьми вынесла, говорят, от этого Федьки Макашина, когда собственную хату вместе с немцами спалила?
Свиридов ходил по тесному помещению, прислушивался к хлопанью на счетах за перегородкой и думал о словах Ефросиньи, что ж он мог сказать ей в утешение, если сам ничего не знал. Самое главное, душа цела, не разлетелась в осколочье, думал он, все остальное и собрать можно и опять в одно спаять. Он не стал отвечать ей прямо, да, пожалуй, она и не спрашивала, сама с собой порассуждала вслух, а интересует ее, знамо дело, дочка.
— Что ж, Ефросинья, — сказал он, присаживаясь с нею рядом на дубовую лавку, — так ведь что тебе об Аленке сказать. Там разве она одна была, ну, как всем, так и ей, там особой разницы не было. Все идут, и ты иди, все едят, и ты ешь, сколь положено тебе. В госпитале она сначала работала, за ранеными ухаживала. Там, по-моему, подружка у ней еще такая была, Настенькой звать, из другого району. — Свиридов замялся, поглядел на свои руки, потер их ладонь о ладонь. — Случай там с ней, Ефросинья, превосходительный был, с парнем одним сошлась она там. Да уж так, сам черт их не раздерет, не растащит, парень-то ничего был, смелый. Видать, жила она с ним, это я тебе как матери, чтоб знала.
Ефросинья сидела все так же, не меняясь в лице; при последних словах Свиридова она лишь коротко взглянула на него и опять отвела глаза.
— Покалечило его, умер. На руках у ней умер, вот оно какой бублик. — Свиридов замялся, прокашлялся, стал глядеть на Ефросинью потверже. — Так все думали, не отойдет Аленка-то, я уж с ней и так и эдак, а она молчит, в том и дело, что молчит. Камень, и только. Одни глаза нехорошо светятся. «Аленка, говорю, послушай, ты же мне не чужая, что уж ты так убиваешься в свои годы. Время придет, подвернется тебе человек». Молчит. А потом уж Брюханов Тихон Иванович как-то приезжал в наш отряд, так с собою забрал Аленку — куда-то в главный штаб. Узнал, что она Захару дочка, пожалел, больше я о ней и не слыхал. Ты, Ефросинья, помнишь Тихона-то Брюханова?
— Как же, хорошо помню, — сказала Ефросинья, хмурясь и стараясь изо всех сил не показать охватившего ее чувства неловкости и стыда за дочь; она скоро справилась с собой, и хотя ей хотелось узнать об Аленке побольше и поподробнее, но она ничего не спрашивала; Свиридова позвал из-за перегородки счетовод, он вышел, и они долго спорили о каких-то актах, затем говорили о списании пропавшей третьего дня лошади. Вернувшись, Свиридов увидел, что Ефросинья сидит все такая же хмурая.
— Ладно тебе, что нахохлилась, — сказал Свиридов. — Значит, доля ее такая приспела, тут уж виноватить некого.
Свиридов крикнул через перегородку счетоводу, чтобы тот не забыл поскорее написать какую-то бумагу в район; Мартьяныч что-то недовольно проворчал в ответ, пожаловался на глаза, на то, что очков подходящих не может достать и потому к вечеру в голове сплошной ералаш.
— Ну, значит, так, — согласился Свиридов и тут же повысил голос: — А ты пиши себе, только бы в брех впутаться. Пожалостливей пиши, рука не отсохнет.
— И без того в сочинители гожусь, — сказал Мартьяныч за перегородкой и затих; Ефросинья встала, набросила на голову платок, стала повязываться, выставив в стороны локти.
— Так ты мне и не сказал, дядя Игнат, как его звали, Аленкиного-то парня...
— Да Алешкой и звали, вишь, как сошлось, Аленка да Алешка, — сказал Свиридов, глядя на Ефросинью, и она впервые заметила, что он уже старый, совершенно седой. — Хороший мужик из него вышел бы, голенастый, запасу много было. И ученый, на инженера перед войной кончил. Не определила его судьба Аленке, так-то, войной все перешибло. А рассказывать, — что же от рассказу толку, мертвого не подымешь. Ничего, Ефросинья, — закряхтел Свиридов. — Вытянем как-нибудь. Сам до смерти уморился, хоть бы кто помоложе вернулся, какой из меня председатель? Не умею. А надо. Вот раньше сумление меня насчет колхоза-то брало, а счас подумаю, так все оно как получилось, и с немцем бы нам куда труднее вышло, и счас что бы мы делали по одному? Может, Кулик отыщется, а я бы себе по-стариковски, топор в руки — и плотничать... Ну, ты иди, иди, ничего.
Холодная и тяжелая земля липла к лопатам. Поле, разбитое на участки, усеянное согнутыми, молчаливыми фигурами женщин и детей, шло с возвышением от реки к лесу; солнце не пробивалось сквозь сплошные низкие облака; дул холодный низовой ветер с северо-запада, и в густых, высоких зарослях ивняка на краю поля от реки держался тихий монотонный гул, иногда его перебивали своим надоедливым стрекотом сороки.
Прижимая локти к телу, помогая уставшим рукам всем своим телом, Ефросинья отваливала и отваливала густо проросшую кореньями землю; нажимала на лопату ногой, затем выворачивала вперед тяжелую груду земли. Червей уже не было, они с холоду, видать ушли глубже, и Ефросинья думала об этом, равномерно повторяя одинаковые движения в течение часа, двух, до самого обеда, лишь изредка, с глубоким оханьем выпрямляя спину и держась за нее на уровне поясницы руками, отдыхала минуту, другую, больше всего в это время чувствуя глухие перебои в сердце; все-таки война и страдания сказывались. Норма была установлена в две сотки, но многие догоняли по пяти, и она не хотела отставать от других; работа была тяжела и харчи скуднее некуда, но это была первая осень без немца, без страха, что тебя заберут и куда-то погонят, что у тебя возьмут и перебьют детей; и от этого, несмотря на скудный харч, держалась веселая злость в работе. Да уже и первую партию в десять лошадей пригнали в Густищи по распределению из Казахстана, уже и в Густищинской МТС, хотя еще не было трактористов, вокруг полуразбитых, разрозненных старых тракторов шло свое движение; через два месяца после отхода немцев откуда-то из сибирского госпиталя, из города Читы, вернулся первый тракторист, дальний родственник Володьки Рыжего — Иван Емельянов, окончивший курсы трактористов в Зежске еще в бытность Захара Дерюгина председателем, вернулся он без левой ноги ниже колена, но и баба его была рада, и дети, и все Густищи; а сам он, сберегший кое-что из своего солдатского довольствия для детей и жены, в первый же вечер, хватив стаканчик из привезенной, а главное, сбереженной до нужного момента с великими душевными муками фляжки, затопал деревяшкой оземь, цапнул свою разрумянившуюся бабу за зад и закричал: