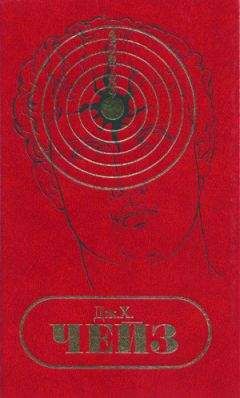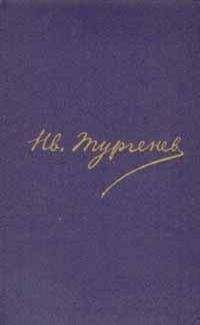Виктор Астафьев - Последний поклон (повесть в рассказах)
— Она хорошую, чистую жизнь прожила. Жалеть не о чем. Всем бы так, — роняю я, чтоб успокоить сестру, но она закатывается в судорожных рыданиях, тянет скомканный фартук к лицу.
— Да уж для добра жила, с добром в сердце, с добром к людям. Кого только не обогрела, кого не обласкала… — И, отрешенно глядя в окно мокрыми глазами, жалуется:
— А племяннички-то? Внученьки-то! Гос-споди! К тому, к Тешке-то, приехали в город: «Лелька заболела». Дак ведь не спросил, как, чем заболела, может, помочь? Нет, он сразу пылить: «Лелька умерла, дак не вздумайте без меня избу продавать. Я, падла, так всех oтделаю, что родная тетя вас на том свете не опознает!» А этот, — махает она рукой за окно. — Миня-то! Утром ворвался, ни здравствуй, ни прощай… «Стопку мне чичас! Ребятам на опохмелку по стопке. Ковды яму выкопам — шесть зеленых и закусь, как полагается». Шакал и шакал! Дали. Кому-то надо копать. Налили, поди-ко, глаза-то? Выкопают ли могилу?..
Кто такие Тешка и Минька — я уже не знаю, не помню, но раз наши, деревенские, я должен их помнить, по разуменью сердобольной женщины.
Распоряжается всем ее муж, деловито стучит палкой с набалдашником, брякает протезом, усталый, потный инвалид со старыми, еще матерчатыми колодками на мятом, засаленном пиджаке. По всему видно, с раннего ранья он в ходу, в хлопотах, на лбу и на верхней губе у него выступил немощный пот.
— Ты бы хоть поел, да передохнул бы. Может, выпьешь маленько?
— Потом, потом. Значит, так: за домовиной Толька поехал, венки заказали, продукты в Дивногорском бабы получат. Вот с транспортом как? Нужна грузовая машина, автобус. Маленький или большой автобус?
— Да уж какой в дозе (Овсянский деревообрабатывающий завод) дадут. Лучше бы большой. Что, как народ соберется? — и снова всхлип и переход на причитание:
— Ее люди любили…
— Ну, ну, погодьте причитать-то, потом зальетесь. Та-ак, чего-то я забыл? Ты не вспомнишь, чего я забыл?
— Да навроде все предусмотрели, заказали… А-а, оркестр!
— С оркестром морока. С оркестром трудно. Да и денег, пожалуй, не хватит.
— Соберем. С родни соберем, с соседей, продадим чего, может.
— Ага, ага, счас само время торг открывать.
Сошли на полголоса, о чем-то посовещались, и вот самая храбрая из распорядителей, опять же Агафьина сестра, потоптавшись на кухне, вступает в горницу и на правах старой уже моей знакомой виновато спрашивает: «Виктор Петрович, ты у нас человек большой, грамотный, подскажи ты нам насчет оркестра. Нам денег не жалко, ниче для нее, голубушки, не жалко, да ведь не осудили бы люди…»
Без назидания, терпеливо стараюсь втолковать захлопотанным, старым, горьким людям, что смерть, тем более смерть деревенской старухи, скромно, в трудах прожившей век, никакого куражу и шуму не требует. Не надо бы никакой суматохи и потехи. И вообще, худая это, куражливая мода хоронить деревенских крещеных стариков с оркестром. Сама тетка Агафья, провожая товарок в иные дали, пела за гробом молитвы, и мою тетку Апраксинью Ильиничну, свою соседушку, провожая, читала и пела особенно проникновенно: «Братиям и сродникам нашим даруй спасение, прощение и жизнь вечную» — или что-то в этом роде, аж за сердце хватало…
— Слава Богу. Слава Богу! — крестятся с облегчением старые люди, инвалид устало оседает на скамейку:
— Мы уж, честно сказать, иззаботились. А молитвы читать и петь мы найдем, найдем… В верхнем конце села старик один еще много молитвов помнит. Он уважит…
Ну все, пора и честь знать! Обвожу прощальным взглядом небогатое убранство избы: старое зеркало, обтянутое черным, пошатнувшийся, грубо прихваченный гвоздем к стене, гардероб, на верх которого в спешке набросано какое-то барахло, бумаги, старая копилка с выбитым меловым задом, на желтом серванте белеет кружевная накидка, по ней вразброс: старая гребенка, чернеющий изломом цветной камешек, узкогорлая штуковина, похожая на кувшинчик, в которую сунуто три давних бумажных цветка, хрустальная вазочка, в ней открытки: с Первым маем, с Октябрем и с Новым годом, здесь же, в вазочке, наперсток, катушки с обрывками ниток, иголки, пуговицы, головные заколки, ломаная новогодняя игрушка…
На стене забыто лепятся два портрета в плоских деревянных рамках послевоенного образца. В одной рамке двое: курносый мужичок, стриженный под раскольника, с небольшой черной бородкой, баба с грубым массивным лбом и тяжелым подбородком, меж которыми запало, потерялось все остальное — глаза, брови, губы, и только нос не дал себя погасить и спрятать, из ничего возникший на вымахе, непокорно вознесся он.
— Дядя Лукаша и тетка Акулина, царство им небесное! — крестятся на портрет женщины.
Я уже с напряжением вспоминаю, что были они самой близкой родней тетке Агафье: не то он — ее старший брат, не то она — старшая ее сестра. Сидят вон парой много лет на стене деревенской избы. Тетка Агафья поминала, чтила их память, на святые праздники свечки ставила. Кто их теперь вспомнит?
— А это вот она сама.
В рассохшейся рамке, крупная, броско красивая, зрелая женщина. Даже мимоходная послевоенная перепечатка, скверная фотобумага, грубая рамка не смогли принизить и затушевать гордую осанку, прямой открытый взгляд женщины, ямочки на щеках, правда, исчезли, видно, несолидными, легкомысленными они показались фоторемесленникам, может, и не давался им такой тонкий штрих лица? Очень похожа на этом примитивном портрете тетка Агафья на любимую мою киноактрису Нину Русланову и на всех гордых русских женщин похожа, даже грубое платье или кофта — заношенный бедный обряд не унизили ее красоты, не погасили осанку славной женщины. Фотографировалась она на сплаве, с коллективом ударниц, когда мужика угнали на работу в Игарку и вернулся он оттуда расшибленный, цинготный. «С общей фотографии и увеличена покойница на портрет», — охотно пояснили мне.
Изба с нехитрым и необходимым имуществом, верандочка, на которой с визгом включался и разболтанно, что кинопередвижка тридцатых годов, стрекотал холодильник «Ока», начищенный самовар, посуда, ухват, сковороды, чугунки. Кладовка заполнена скарбом, банками с вареньем, лампами, давно вышедшими из обихода, фонарь без стекла, ссохшиеся пыльные обутки, бутылки с какой-то жидкостью, пересохшие пучки трав, рукавицы, топор, щипцы. Свежепокрашенное крыльцо заметно сгнило на торцах и обломалось; надворные постройки скособочились — уже давно нет на дворе ни мужика, ни скота, да и кошки не видно.
Но за обветшалыми постройками, за едва держащейся на жестянке дощатой калиткой, пестреет огород, старательно ухоженный, светлой водой окропленный сибирский огород, не раз урезанный и обсеченный. В нем поместилось все необходимое для жизни: картофель, свекла, репка, капуста, редька, бобы с горохом, по привычке ткнутые в бока гряд, да несколько брюковок. Даже цветочки есть — ноготки, астры, желтыши, настурции — для радости, для украшения посажены, может, и для похорон, чтоб не было лишних хлопот родственникам, чтоб зря капиталы не тратили. И неуклюже, тяп-ляп — не отставать же от моды! махонькая теплица сооружена, крытая мутными клочьями полиэтилена. В тепличке долговязые помидоры мучаются, огурчишки по кольям ползут, в щели, наружу вылезть норовят. И подсолнухи, подсолнухи! Вот-вот они зацветут и осветят радостным светом этот клочок родной земли. Уже без хозяйки, без саженицы будут они цвести и свидетельствовать, что душа ее здесь, нетленна она до тех пор, пока есть этот, ею возделанный огород, ее родная деревня, эти горы, леса, великая река, водой из которой омыта она была в детском корытце, когда родилась, и этой же водой обмыта, когда снаряжали ее в далекий, вечный путь.