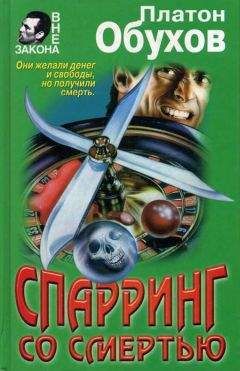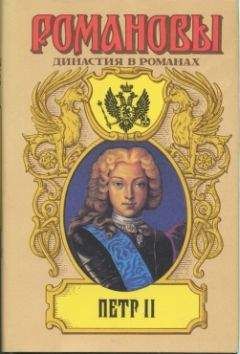Петр Проскурин - Отречение
Вернувшись домой уже часа в четыре, Оля, не отвечая на расспросы Анны Михайловны, бросилась к сыну и, только увидев его, с начинавшими обозначаться темными бровками, с пустышкой во рту, спокойно спящим в кроватке, бессильно опустилась рядом на низенький стульчик и беззвучно заплакала.
— Мне там вдруг показалось, сына у меня тоже больше нет, — сказала она утешавшей ее тетке.
— Не говори глупости, — стала успокаивать ее Анна Михайловна. — Никто теперь его у тебя не украдет… Это ведь такое счастье, Оленька! Время проскочит — не заметишь. Что говорит адвокат насчет обжалования?
— Не знаю, все взяла на себя Елена Захаровна, — ответила Оля, не отрываясь от хмурого личика спящего сына. — Твое главное дело, говорит, ребенок, я все необходимое сделаю сама. Я так, тетя, испугалась, силы меня оставили, боялась, не доберусь…
— Глупая, не плачь, не томи себя попусту, молоко береги! — проворчала Анна Михайловна, пробуя, нагрелся ли утюг, и принимаясь за пеленки. — Ты еще плохого не видела… Бога не гневи, Ольга! Иди развесь белье, я там выполоскала.
Поздний звонок в дверь заставил их испуганно переглянуться, Анна Михайловна осторожно опустила утюг на подставку, решительно вышла в прихожую и, не отзываясь, посмотрела в глазок; Оля шагнула вслед за нею и встала рядом, готовясь к любым новым неожиданностям.
— Женщина, — тихо сказала, оглянувшись на нее, Анна Михайловна. — Богато одетая… Ишь, шуба до пят… Взгляни сама.
Оля наклонилась к глазку и, сильно бледнея, выпрямилась.
— Лера Колымьянова? Зачем?
Звонок настойчиво раздался вновь, и Анна Михайловна, помедлив и не добившись ничего от племянницы, открыла и сразу, едва встретившись глазами с пришедшей, насторожилась.
— Я хотела бы увидеть жену Петра… Петра Тихоновича Брюханова… простите, мне это очень нужно, — тут же добавила она и, увидев Олю, как-то неуверенно-жалко улыбнулась ей. — Здравствуйте, Оля… вы меня не узнаете? Можно войти? Я всего лишь на несколько минут, не задержу…
— Входите, — пригласила Оля, — Конечно, я вас помню. Вы ведь Лера Колымьянова?
— Да, да, — торопливо остановила ее Колымьянова, не сводя глаз с Оли и в то же время какой-то далекой памятью узнавая большую брюхановскую прихожую и даже огромное старинное зеркало напротив двери в резной оправе из черного дерева, с замутившимся пятном зеркального стекла в верхнем правом углу. Обрывая молчание, начинавшее тяготить всех троих, Оля предложила присесть тут же в холле, и Колымьянова, все с той же неуверенной полуулыбкой поблагодарив, осторожно опустилась на самый краешек одного из двух, все тех же громадных бархатных кресел, когда то темно-коричневых, а теперь вытертых до рыжих пятен.
— Я знаю, вы меня ненавидите, — сказала Колымьянова, не обращая внимание на присутствие Анны Михайловны, втайне встревоженной происходящим, — но я не могла, я должна была прийти.
— Ваша истерика на суде очень повредила делу… Что вам надо? — спросила Оля, начиная приходить в себя от неожиданности.
— Я сама не знаю, как это получилось, — тихо ответила Колымьянова, по-прежнему не отрывая глаз от лица Оли, и ее голос стал глуше. — Но вы сами представьте — у Лукаша действительно что-то ужасное… Он один совершенно не выходит па улицу… а если его вытащишь, липнет к стенам, врачи говорят, какой-то странный синдром… забыла.
— Меня не интересует Лукаш, — сказала Оля, и в голосе у нее прорезалось что-то настолько жестокое, непрощающее, что даже Анна Михайловна испугалась. — Вы здесь совсем не из-за Лукаша, не лгите.
— Да, — призналась Колымьянова, меняясь в лице и с трудом отрываясь от кресла. — Вы, конечно, вправе указать мне на дверь, я что-то плохо соображаю… Простите, я не могла себя удержать… Разрешите мне взглянуть на сына Петра Тихоновича. Только взглянуть!
— Нет, нет, ни в коем случае, он спит, он нездоров, я не могу рисковать, — сказала Оля, стягивая ворот ситцевого халатика у себя на шее. — Всего хорошего!
— Не волнуйтесь, вам сейчас вредно. Вы правы. Я так и думала. Ухожу, ухожу! не беспокойтесь, — заторопилась Колымьянова, собираясь с силами, шагнула к двери и, не оглядываясь, вышла.
Тщательно заперев за нею все замки и запоры и накинув цепочку, Оля, не отвечая на вопросы тетки, бросилась в комнату к ребенку и, увидев его, все так же крепко спящим, опустилась на колени перед кроваткой и забылась в облегчающих слезах.
19
Позвонив уже в одиннадцатом часу вечера и увидев перед собой знакомое постаревшее лицо со светлыми дерюгинскими глазами, с метнувшейся в них болью, Денис, словно внезапно потеряв дар речи, лишь беспомощно топтался на коврике перед дверью и растерянно улыбался.
— Денис, — укоризненно покачала пышной, теперь уже совершенно седой головой Аленка, — не может быть! Денис — ты? Неужели ты? Откуда? Какой красавец стал! Боже мой, даже не сообщил. Входи скорей… Ну, хоть бы словечко! Что же ты в чемодан вцепился… Поставь, здесь никто не возьмет…
Аленка хотела насильно взять чемодан из рук внука, но он осторожно прислонил его к стене рядом с встроенным шкафом; Аленка обняла его, едва дотянулась до головы, потрепала буйную шевелюру, и внук засмущался еще больше.
— Ну, ну, бабуль, ну что ты? — пробубнил он звучным баском. — Ну, ладно, ладно, как вы живете-то? Бабуль, слушай, перестань, не плачь, я тебя не узнаю… Случилось что-нибудь? Нет, что же это такое, ты же совсем белая…
— Время пришло, выкрасило, — сказала Аленка, утирая слезы. — Ты не получал моего письма? Совсем ничего не знаешь? И деду не написал? — удивилась она. — На кого же ты все-таки похож? На деда Захара?
— Бабуль, ну перестань, в самом деле, — засмеялся внук. — Какая разница, на кого я похож? Сам на себя!
— Глаза у тебя определенно в нашу, дерюгинскую породу… а брови — брюхановские, руки, пожалуй, брюхановские…
— Ну, бабуль, ты прямо как на конном заводе, — опять не выдержав, засмеялся, он, сверкнув сплошным рядом зубов; обняв ее за плечи, он насильно усадил ее, тут же в прихожей, на маленький диванчик, скрипнувший под непривычной тяжестью. — Ну, бабуль, ну, честное слово, как тебе не стыдно, разревелась, как маленькая.
— Сейчас, сейчас пройдет… Мне не стыдно, а вот тебе не стыдно? За два года — четыре письма!
— Ну, не умею я писать письма! О чем писать-то? — защищался внук. — Не умею писать письма, не люблю, вот так, только чтобы время занимать…
— Погоди, отцом станешь, поймешь, о чем мог бы написать с границы, — сказала Аленка. — Что же это я! От радости голову потеряла… Ты же с дороги. Иди в свою комнату, располагайся… Там твой старый диван, фамильный, брюхановский, сейчас как раз по тебе. Ванна напротив… ты не забыл? Давай, я на стол соберу… Что там есть в холодильнике… Ну, иди, не теряй времени.