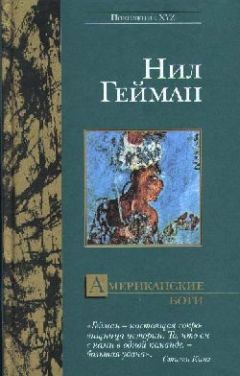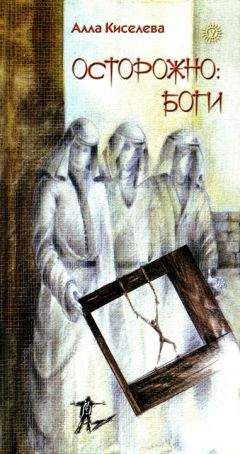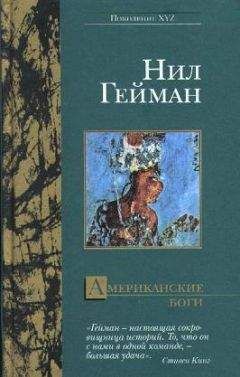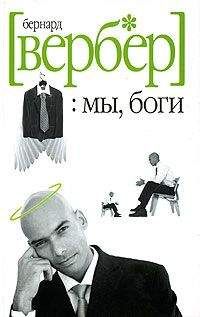Петр Проскурин - Судьба
— Деда Рыжего кто-то обокрал, зараза, — весело ухмыляясь, сказал ему Егор, давно слушавший истошные крики на другой стороне улицы. — Там полсела собралось. Варечка орет. Наша бабка тоже пошла поглядеть. Ты послушай, вот орет, а, вот орет! И до чего же ей чужого добра жалко.
Николай ничего не сказал, взял ведро и пошел по воду, на этот раз ни Егор, ни бабка Авдотья не принесли воды, а Николаю хотелось пить.
Когда-то задолго до организации колхозов, когда и сам Володька Рыжий был дюжим двадцатипятилетним мужиком, по прозвищу Рыжий, потому что и тогда его лицо покрывала могучая ярко-рыжая молодая щетина и он соскабливал ее лишь дважды в месяц, он водил знакомство с кочевыми таборами цыган; в селе поговаривали потихоньку, что он помогает цыганам укрывать краденых лошадей и имеет от них немалый барыш. Слухи эти держались упорно и вскоре распространились далеко по окрестным селам. Рыжий Володька тогда только-только женился, взял соседскую девку-красавицу Прасковью, и вот тогда-то на него рухнул первый удар судьбы. Из соседнего села Столбы увели двух лошадей, и следы показывали вроде бы в направлении Густищ; подхватился Володька Рыжий, лишь когда огненные клубы уже ворвались в его избу; Параша завыла рядом дурным голосом, и пока Володька Рыжий соображал, что делать, метнулась в сени, в тот же момент ударил в открытую дверь огненный вихрь; рухнула в сенях крыша. И только жалкий, никогда не слыханный ранее вопль остался в памяти Володьки Рыжего, ударом ноги он проломил раму и метнулся в темноту, задыхаясь и ничего не видя, и тут бы был ему конец, не начни сбегаться к пожару люди; кто то из поджигателей, карауливших в темноте, сбил его с ног ударом кола и бросился бежать; Володьку так и нашли в саду с проломленным черепом, но был он медвежьего здоровья и силы и через несколько месяцев уже в отстроенную с помощью советских властей избу привел вторую жену, ту самую Черную Варечку, которой так боялись в Густищах: поговаривали, будто она из ведьмовского журавлихиного рода, и эта недобрая слава передавалась всей женской половине семьи из потомства в потомство. Да и впрямь после свадьбы словно подменили Володьку, стал он молчалив и с утра до темной ночи копался по хозяйству, а черноголовая (что уже было в диковинку в Густищах, в исконном русском селе, где люди все сплошь были белесы да светлоглазы), с сумеречными бездонными глазами Варечка на любом празднике выступала впереди мужа, и он, известный доселе бабник и балагур, глаз в сторону не мог скосить, глядел на свою Варечку, как на икону. И хоть оказалась она неродеха, любил он ее в молодые годы дико, что тоже было невиданным делом в Густищах, где жену в семью испокон веков брали прежде всего как работницу, и об этом тоже шептались бабы на селе, и мужики на сходках не упускали случая позубоскалить, хотя и не решались заходить слишком далеко. Володька Рыжий, кроме медвежьей силы, еще и тогда вспыхивал, как порох, хватался за что попало, топор так топор, подвернется нож — и нож пойдет в дело. На войну его не взяли, потому что после пролома черепа нападали на него время от времени какие-то столбняки; сам он говорил, что в это время застилает глаза чернота и во лбу начинается дикий вертеж, отчего нестерпимая боль доходит до самых пяток.
Не все на селе верили Володьке Рыжему и полагали, что это стараниями Варечки не попал он на службу, да и при немцах отсиделся в стороне из-за своей болячки, лишь на диво всему селу отпустил густую, окладистую, как у доброго досоветского батюшки, бороду, сразу превратив себя этим в почтенного старика, хотя и было ему всего лишь под пятьдесят. Бабы, оставшиеся одни, откровенно завидовали Варечке, но она при этом всегда насмешливо покачивала головой и тихим голосом удивлялась, до чего же люди недобрые стали, и всякий раз укоризненно спрашивала, какой же теперь из ее Володьки мужик? Был да весь вышел, говорила она, поджимая красивые злые губы и надвигая ниже на глаза платок. Где уж, говорила она, словно в чем виноватая, не до жиру теперь, быть бы живу, и то ладно, и то слава богу. И все понимали, что она изворачивается, боится за своего Володьку, сними с которого бороду, сошел бы он вполне не то какой-нибудь солдатке, но и девке, пересидевшей в напрасном ожидании все сроки. Боялась Варечка за своего Володьку, потому и звала его «дедом», рассказывая каждому встречному и поперечному о его болезнях да слабостях, но так как он был почти единственным стоящим мужиком на все село, да и мастером на все руки, то и пользовался беспрерывным спросом, особенно когда немцев отогнали и нужно было устраиваться на старых пепелищах, обзаводиться хоть каким-нибудь жильем на зиму, а плотницкий труд всегда был делом мужичьим, да так и осталось. Баба за войну наловчилась и косить, и пахать, и печь могла сложить, и крышу перекрыть под гребенку с глиной, а вот связать раму или дверь так и не осилила.
Растрепав черные с густым смоляным отливом волосы, в это утро кричала Варечка истошным безобразным криком, почти воем, металась по своему саду, собирая все больше и больше людей вокруг; Володька Рыжий то ходил за ней, уговаривая, затем плюнул и скрылся в землянке, но не выдержал и скоро вышел к людям.
— Владимир Парфеныч, а Владимир Парфеныч, — тут же протиснулась к нему Настасья Плющихина, у которой он обещал сегодня делать рамы и которая по этой причине была заинтересована в происходящем больше других. — Что за морока стряслась с твоей бабой? Чего она голосит-то, ай побил? — сверкнула она красивыми насмешливыми глазами, и Володька Рыжий, особенно отличавший Настасью, хмурясь, развел руками:
— Да, видать, хворь какая на нее нашла, видишь, носится как оглашенная. Кто вас, баб, поймет?
— Ой, брешешь, Парфеныч, — засмеялась Настасья, — что-то не то говоришь. Ты погляди, погляди на нее, ну точно стрекозел носится, прямо самолет, бабоньки.
Варечка, заметив, что муж вполне спокойно стоит в толпе насмешливых баб, да еще рядом с Настасьей, у которой он что-то подозрительно долго навешивает рамы, метнулась в землянку, тотчас выскочила оттуда с веревкой и, подбегая к мужу, сунула ему в руки: бабка Авдотья, стоявшая неподалеку, видела ее потемневшие огнем глаза.
— На, черт рыжий! — кричала Варечка. — На, иди удавись, чтобы тебя холера источила, чтоб тебе на том свете черт бороду выдрал. Иди, иди, удавись, раззява, моченьки у меня больше нету с тобой, неспособный!
Володька Рыжий с веселыми искорками в глазах шутя отталкивал ее от себя, а бабы вокруг весело и заразительно смеялись, и бабка Авдотья тоже залилась тоненьким смешком, придерживаясь за грудь; всеобщее веселье неудержимо охватывало собравшихся, и даже ничего не понимающие ребятишки хохотали со всеми. Но только вдруг Володька Рыжий неуловимым движением выхватил веревку из рук жены и тотчас полоснул, не жалея ее, по спине. Варечка взвизгнула, как-то боком подпрыгнула и бросилась прочь, подхватив спереди длинную юбку; в глазах у нее мелькнуло недоумение, а Володька Рыжий, догнав ее, теперь рубанул сложенной в крупные кольца веревкой уже пониже спины, Варечка от этого еще раз косо подпрыгнула.