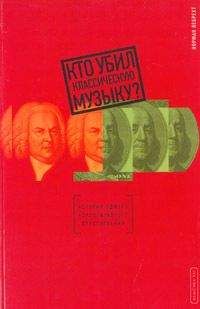Песня имен - Лебрехт Норман
Мы с Довидлом были приглашены на чай. Миссис Блэр с печальными глазами (отец объяснил, что она потеряла брата в Дюнкерке) по-матерински хлопотала вокруг нас, а великий писатель только подергивал губой под тонкими усиками. И вертел в руках тяжелую зажигалку, пока Довидл играл amuse-gueule [42] Вьетана, вызвав слезы у миссис Блэр. Музыка его не тронула, на попытки отца завязать беседу отвечал коротко, а мы тем временем поглощали поданные к чаю бутербродики (кроме ветчинных).
— Кем ты хочешь быть, мальчик, когда вырастешь? — спросил полемист высоким учительским голосом.
— Писателем, сэр, как вы.
— Нужны будут шахтеры и фермеры, когда кончится эта история, а не сочинители красивых фраз, — фыркнул он.
Казалось, ему неуютно в буржуазном декоре Лангфорд-Корта, так же, как в собственном худом шестифутовом теле, сплошь из углов и локтей. У него пахло кислым изо рта, и рука была влажная, когда он, сославшись на срочную работу, попрощался с нами прямо за чаем. Миссис Блэр извинилась за его невежливость и объяснила, что он должен очень спешить. Меня не обидело его пренебрежение к музыке, к маленьким мальчикам и энтузиазму знакомых по местной обороне. Я видел в нем человека нравственно сильного и решительного, он остался в Лондоне, когда другие писатели разъехались по загородным домам, поскольку муза требовала тишины и покоя. Как и многие писатели, которых я узнал позже, он решительно отвергал музыку — соперницу, отвлекавшую внимание публики.
Оруэлл недолго оставался в Лангфорд-Корте с его изящными светильниками и швейцарами. Он переехал на Мортимер-Кресент, рядом с килбернским краем моей газетной зоны, и снял квартиру с сырым полуподвалом на первом этаже викторианского дома. Иногда я видел его за столом, пишущего при скудном свете. Один раз он помахал мне рукой, но рассеянно — может быть, в муках рождался «Скотный двор». В остальном переезд оказался неудачным. В 1943 году дом был разрушен самолетом-снарядом, и Блэры присоединились к бесприютному множеству стекавшихся под прохладное крыло моей матери.
Она была рождена для этой роли. Распоряжаться людьми было в природе Вайолет Симмондс, и, просидев на бесконечном количестве благотворительных обедов, она знала, как позаботиться о нуждающихся. Вооруженная ист-эндским опытом, с видом, не допускающим возражений, она пришла в районный совет на Марилебон-роуд и потребовала встречи с мэром. За несколько минут она реквизировала общественный дом при церкви и взяла на себя переселение и обустройство бездомных в районе между Финчли и Эджвейр-роуд. С добровольцами из своего вышивального кружка она коршуном пала на переживших бомбежки, разыскала их близких (тех, что были живы), обеспечила им, растерянным, временное жилье и питание на первые дни. С каждым потерпевшим она расправлялась быстро и четко, но истинное удовлетворение испытывала тогда, когда представлялся случай протянуть с высоты руку помощи тем, кто стоял выше по социальной лестнице.
Однажды зимним утром, когда мы вернулись домой, миссис Айзекс (урожденная Сассун), мать Джонни, причитала, почти завывала по-восточному над разбитыми плитами своего псевдопалладиевского крыльца. Над развалиной поднимался дым, и пожарные сматывали шланги. В нескольких шагах от нее заламывал руки муж, биржевик по профессии, а Джонни, впав в детство, сосал большой палец.
— Ну, довольно, Женевьева, — бодро сказала мать. — Не время унывать. Генри — это беспомощному мужу, — лучше вам пойти на работу, чтобы не опоздать к открытию рынков. К вечеру мы с этой неприятностью разберемся. Джонни, в школу. Мартин, отведи его к нам завтракать. Дорогая Женни, кажется, у меня есть для вас временное жилье, милая квартирка на Лангфорд-Корт, восьмой этаж, пентхаус, как сказали бы американцы, но маленький. Пойдемте в Сент-Майклс-Холл, выпьем горячего кофе и все уладим.
К виду разрушенных домов я так и не смог привыкнуть, а этот был рядом с нашим. Как говорится, Бог миловал. Но разбомбленный дом — это не просто уничтоженное имущество и человеческие жизни, не просто крушение иллюзий личной безопасности. Гибель двухквартирного дома в предместье, стандартного домика рабочих, благополучного городского особняка означала крах одного из самых драгоценных мифов, ценности настолько самоочевидной, что она даже никогда не была оговорена в законе. Попран немцами был сам английский принцип приватности, наделявший каждого домохозяина собственным замком, с его собственной закладной, правами суверена, с воображаемым подъемным мостом перед входной дверью. Приватности вдруг пришел конец. Разрубленный надвое дом показывал половину кухни, спальню, ванную комнату. На стене подмигивало чудом уцелевшее зеркало. На полке раковины стояли грязные чашки. Розовый дамский будуар заливался краской смущения перед соглядатайской улицей.
Нас с Довидлом завораживали эти картины. Каждое утро после доставки газет мы сравнивали количество увиденных «инцидентов». Газеты в корзинах велосипедов давали нам что-то вроде журналистского права прошмыгивать мимо ошеломленных жертв и пожарных. Часто мы поспевали помочь спасателям, отгребали обломки и вытаскивали из домов-могил оглушенных обитателей. Мальчик ты или взрослый — в таких обстоятельствах разницы не было.
— Ты, мальчик, помоги мне его вытащить.
— Ты, там, с велосипедом, отвези это в пожарную часть, живо.
Среди ужасов, уродств и людских несчастий мне открывалась и красота. Манящее зарево оказывалось вблизи разрушенным, в огне и дыму, трехэтажным домом на Спрингфилд-роуд; зрелище леденило кровь и не отпускало.
— Сегодня утром три новых, — сообщал я по дороге в школу.
— Я видел четыре. — У Довидла всегда было на один дом больше.
— Не верю. Где?
— Один на Эбби, один на Луден-роуд, два на Гроув-Энд.
— Врешь.
— Сам посмотри.
— На Луден — старый, разбомбили на прошлой неделе.
— Слушай, — рассудительно сказал он, — чтобы не спорить, давай предъявлять доказательства — одну вещь с каждой развалины.
— Идет, — обрадовался я, ткнув его в плечо. — Спорим, я выиграю.
— Погоди. НРБ считаются?
Неразорвавшиеся бомбы были опасным подарком, людей к ним не подпускали до прихода саперов. Другой опасностью были взрывы газа. Первый запашок утечки мог стать для тебя последним. Сообщить о нем требовалось немедленно. В подсчетах наших присутствовал элемент героизма: мы находились на передовой линии обнаружения и защиты от газа и НРБ и оповещали ближайшего дежурного обо всем, что увидели или унюхали. В качестве приза я подбирал бесхозный пенс, носовой платок или осколок посуды. Довидл был амбициознее: он приносил полукроны, книги, фарфоровую чашку.
В руках у него что-то блеснуло под бледным утренним солнцем.
— Но это же серебро, — запротестовал я, — может, оно ценное.
— Тем лучше, я спас его от мародеров, — сказал мой друг.
— Красивый браслет. Что ты с ним сделаешь?
— Ничего, — соврал он.
С каждым месяцем наши маршруты удлинялись: все увеличивались разрушения и спрос на новости. Газетчик Уилкокс удвоил нам жалованье в компенсацию за долгую езду и докрасна натерные грубыми шортами ляжки. Британским мальчикам не полагалось носить брюки до средней школы. Воспитывалась морозостойкость.
Уилкокс откупил участок у соседнего конкурента и посылал нас развозить газеты за Эджвейр-роуд до Мейда-Вейл, красивой улицы, где теперь царила мерзость запустения. Брошенная хозяевами домов, изрытая воронками, она стала ничейной землей, ее заселили пьяницы и дезертиры, и нам с Довидлом велели не заходить в этот район.
— Как можно быстрее управляйтесь с делами на той стороне, — строго предупредила мать. — Там полно фениев [43] и богемы.
— Королевство Богемии, — педантично объяснил Довидл, — было южным соседом Польши.
— Не та богема, — со вздохом сказал отец. — Чехи всегда были очень цивилизованными и милыми. А это — британская богема. Они ленивые и аморальные, живут как цыгане. Что касается фениев, вы, конечно, узнаете о них, когда будете изучать беспокойную историю Ирландии в средней школе.