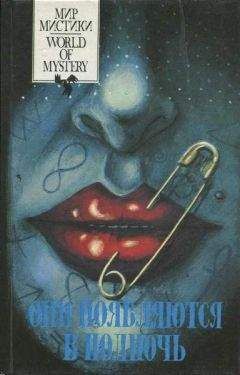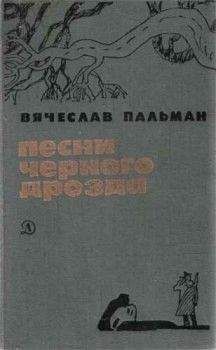Иди за рекой - Рид Шелли
Я всегда была хорошей девочкой. Послушной, обязательной и почтительной к старшим. Я читала Библию. Я укладывала персики в корзину так, будто каждый сделан из тонкого стекла. Я содержала дом в чистоте, заботилась о том, чтобы все были сыты, и никто ни разу не слышал, как я плачу. Я сама, без подсказки, разобралась, как жить на свете без матери. А потом столкнулась с чумазым незнакомцем на перекрестке Норт-Лоры и Мейн-стрит и влюбилась. Достаточно одного-единственного ливня, чтобы размыть берега и изменить направление реки, – достаточно одного обстоятельства в жизни девушки, чтобы стереть все, чем она была прежде.
Я все орала и бросала камень за камнем, изливая на бедное животное скопившееся горе и страх. Как и я сама до встречи с Уилом, Авель не знал в своей жизни ничего, кроме преданности и послушания. Каждый брошенный мною камень учил его тому, что недавно узнала я: в этом мире на всякую долю добра приходится две доли зла. Ты можешь быть хорошей девочкой, хорошей лошадью, можешь слушаться, можешь любить, но не рассчитывай на то, что, если ты поступаешь правильно, значит, и с тобой поступят правильно в ответ.
Последний камень рубанул Авеля по щеке, и, к моему ужасу, рассек ее до крови. Бедняга припустил под гору, прочь от девчонки, которая когда‐то была к нему добра. Я рухнула на свою поклажу и рыдала, а тучи тем временем расступились, и в лучах полуденного солнца слезы сохли, покрывая мои щеки соленой коркой.
Я представила себе нашу кухню – тихую, словно полночь, и плиту – холодную и пустую. Папа наверняка пообедает у Митчеллов, так что Ог первым узнает, что я убежала. Еще даже не успев докатиться до кухни, он обратит внимание на отсутствие ароматов, а когда въедет внутрь и обнаружит, что его некому обслужить, подозрения подтвердятся. Он не станет поднимать тревогу и звонить папе, не станет делиться с ним тем, что для него самого уже вполне очевидно. Обе эти реакции были бы уж слишком похожи на заботу. Когда папа вернется вечером домой, уставший и весь в крови от сегодняшнего отела, первым делом он обнаружит оседланного Авеля, свободно разгуливающего по двору, а потом войдет в дом и не найдет там приготовленного к его приезду ужина. Мне было нелегко представить себе, как папа вдруг задумывается над моим отсутствием, как он внезапно осознает, что я, его дочь, – живой человек, а не просто удобное приспособление, домашняя прислуга, воспитанная и предсказуемая девочка. Я рисовала в своем воображении, как он осторожно открывает дверь в мою комнату, как находит записку, которую я оставила для него на кровати, и медленно разворачивает ее натруженными пальцами. Я горевала, что не написала больше, что не хватило смелости сказать ему всю правду. В записке было:
Папа!
Я ненадолго уехала. Нужно позаботиться об одном важном деле.
Прошу тебя, не ищи меня. Я вернусь, как только смогу.
Я тебя люблю.
Прости меня. Не волнуйся.
Лежа на своей поклаже, я гадала: когда настанет утро и телята продолжат появляться на свет, и мистеру Митчеллу и его коровам опять понадобится помощь папиных умелых рук, вернется он к работе, которую необходимо было сделать, или отправится искать меня? Я не знала. Я надеялась, что моя подпись – Виктория, а не Тори – укажет ему на то, что он и не заметил, как я повзрослела и теперь могу сама принимать решения. За всю мою жизнь он ни разу не назвал меня Викторией – ни в гневе, ни в приступе нежности, – поэтому наверняка увидит в сбежавшей девушке, в этой молодой женщине по имени Виктория кого‐то совершенно незнакомого.
И тут я сообразила, что ведь это Тори недоставало решимости встать и сдвинуться с места, а Виктория – та Виктория, которую знал Уил, – сильная женщина, и ее не остановить.
Я, Виктория, поднялась на ноги. Взвалила рюкзак на плечи, подсунула большие пальцы под ремни, чтобы отрегулировать натяжение, и пошла. Я не была уверена в том, что помню дорогу к хижине, где мы с Уилом лежали вместе, поэтому призвала на помощь интуицию и даже младенца в утробе, чтобы указывали мне путь. Каким бы абсурдом это ни казалось, мне не на что больше было надеяться, кроме того, что хижина сама притянет меня к себе и что мы с ребенком инстинктивно почувствуем магнитное поле места, где все для нас началось.
Я шла наугад без дорог и тропинок, стараясь не представлять себе, как Авель устало бредет в противоположном направлении по склонам, поросшим полынью и усыпанным камнями. Я все надеялась увидеть что‐нибудь знакомое из нашего похода с Уилом так много месяцев назад, когда осень еще только-только превращалась в зиму. Я представляла себе нас тогдашних, пьяных от любви, и как мы шли тогда бок о бок, как прекрасна была его улыбка, как легко он брал меня за руку, и отпускал, и снова брал, как наклонился и сорвал веточку полыни, как вертел ее между пальцами, пока листья не рассыпались в труху, и тогда с наслаждением втянул их запах и поднес сухую ветку к моему носу. Словно для того, чтобы воскресить хотя бы маленькую часть его, я нагнулась и потянула за стебель полыни, оторвала его точь‐в-точь, как он тогда, и сунула под лямку рюкзака. Едкий запах оживил туманное воспоминание, и оно, похоже, указало мне верное направление. Поднявшись на холм, я увидела ряд высоких утесов из песчаника, подтверждающих, что память меня не подвела. Уил называл их часовыми и показывал мне, как их силуэты будто прижимаются друг к другу бедрами. Я зашагала вниз по холму и обошла четыре зубчатых башни. Дальше дорогу я уже знала. Я пробралась сквозь голые осины, усыпанные созревающими золотистыми почками, и поднялась на еще один холм. Там я на несколько минут присела, немного выбившаяся из сил, но приободренная, попила воды из фляги, потом тяжело спустилась в высохшее русло бывшей реки и поднялась по последнему склону из осин вперемешку с соснами и редкими кучками таящего снега. И вот она показалась в просвете между деревьями – маленькая деревянная лачуга, где мы с Уилом нашли тогда укрытие. Она оказалась еще более скромной, чем в моих воспоминаниях, не больше лошадиного стойла, и устроена была прямо на неровной земле, а крышей ей служили постеленные вкривь и вкось ржавые листы жести.
– Просто заброшенная охотничья хижина, – сказал Уил, когда я поинтересовалась вслух, не вторгаемся ли мы на частную территорию. – Никому нет до нее дела, кроме пауков и прочей живности, которую я отсюда прогнал.
Укол в сердце снова напомнил мне о том, что, если бы Уил укрылся здесь на всю зиму, борясь со снегом, ледяным холодом и голодом, у него и то было бы больше шансов остаться в живых, чем оказалось в действительности – когда он перебрался поближе к людям. С тех пор как он спустился с гор, я не всегда знала, где он ночует – предполагала, что у Руби-Элис, то в доме, то в сарае, – но зато я с убийственной твердостью знала, что оставил он этот безопасный райский уголок из‐за меня.
Я ступила на грязную лужайку. Сбросила с плеч тяжелый рюкзак, уселась на него и огляделась по сторонам. До хижины я добралась, но что делать дальше? Войти в комнату, где расцвела наша любовь, но куда Уил больше никогда не вернется, будет невыносимо. Оставаться снаружи, ничем не защищенной, посреди этого бесприютного простора, представлялось таким же немыслимым. Разбивать здесь лагерь и устраивать новую жизнь в этом самом месте будет полным безумием. Я просидела так довольно долго, парализованная усталостью и смятением.
День клонился к вечеру, холодало, и лес становился все более мрачным и зловещим, так что у меня не осталось выбора: пришлось встать и войти в хижину. Я представила себе, что это Уил схватил меня за руку, помог подняться на ноги и повел, откинув оленью шкуру на входе и пригласив войти – точь‐в-точь как в первый раз, когда я переступила этот порог. Едва войдя внутрь, я увидела, что там все осталось таким же, как перед его уходом: в углу аккуратной стопкой стояли консервы из свинины с фасолью, на ржавом гвозде висела алюминиевая фляга, на коробке спичек стояла банка с наполовину прогоревшей свечой. Легко было поддаться иллюзии, что он в любую минуту вернется. На кровати лежала груда одеял Руби-Элис. Я опустила рюкзак на земляной пол; сил на то, чтобы рыться в нем в поисках еды, не было. Сняла ботинки, нерешительно приподняла край одеяла и забралась в постель, чувствуя, как внутри вздрагивает мой малыш. Я сделала глубокий долгий вдох, надеясь уловить запах Уила. То ли одеяла и в самом деле до сих пор им пахли, то ли я себе это нафантазировала, чтобы не сойти с ума от горя и страха, но я укуталась в его запах, отгородилась от всех прочих ощущений и уснула.