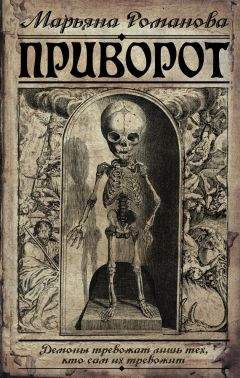Что видно отсюда - Леки Марьяна
— Аляска! — кричали мы. — Аляска!
Мы обежали две соседние деревни и спрашивали каждого встречного, не видел ли кто очень большую собаку. Эльсбет постоянно спрашивала у нас, не чешется ли у кого-нибудь случайно правая ладонь, и это раздражало не меньше, чем раздражали бы проповеди Пальма. Эльсбет объяснила, что непременно кого-то встретишь, если чешется правая ладонь.
— Нет, — говорили мы, — все еще не чешется.
— Я больше не могу ходить, — сдалась, в конце концов, Сельма.
— Прервемся, — сказал оптик, — завтра утром продолжим поиск. Может, Аляска уже давно сидит перед дверью и ждет нас.
Я не хотела прерываться, я догадывалась, что стоит прекратить поиск — и тот, кого ты ищешь, потерян навсегда. Я боялась телефонного звонка от моего отца. Отец любил Аляску. Он редко ее видел, это упрощает любовь, потому что отсутствующие не могут вести себя плохо. Мой отец звонил по утрам, связь была очень плохая. Сельма ему сказала, что Аляска убежала, хотя мы все стояли вокруг нее и махали руками, чтобы просигналить ей: ничего не говори об исчезновении Аляски, пока не говори. Но Сельма не поняла наших сигналов и только с удивлением смотрела, как мы машем руками, как будто все разом обожгли себе ладони.
— Вы должны непременно ее найти, — сказал мой отец, насколько могла понять Сельма при такой плохой связи, и что он обязательно еще позвонит вечером. Теперь я так и видела перед собой, как Сельма ему скажет, что мы обыскались Аляску, искали всюду, но нигде не нашли. Я так и видела перед собой отца — где-то далеко в телефонной будке, с плохой связью, в которой он ничего не мог расслышать, кроме «всюду» и «нигде».
— Идите-ка вы домой, — сказала я, — а я еще немножечко поищу.
Назад я шла не деревнями, а вдоль края леса. Постепенно темнело. Когда я очутилась на ульхеке, на том лугу, где Сельма стояла в своих снах рядом с окапи, из-за стволов деревьев разом выступили трое мужчин. Они возникли так неожиданно и бесшумно, будто вышли не из леса, а из Ниоткуда.
Я остановилась. Мужчины были с бритыми наголо черепами, в черных монашеских кимоно и сандалиях. Трое монахов выломились из подлеска. Даже внезапный окапи не мог бы оказаться здесь настолько неуместным.
Монахи сосредоточенно смотрели себе под ноги. Когда они, наконец, подняли головы — в нескольких шагах от меня, — то заметили меня и остановились.
Они стояли передо мной в ряд. Это выглядело как очная ставка в Месте преступления, когда за отражающим стеклом выстраивают людей, среди которых свидетель должен опознать подозреваемого в преступлении. Чтобы затруднить свидетелю опознавание, все выстроенные чем-то похожи друг на друга. «Преступник был в черном монашеском кимоно, — сказал бы в данном случае свидетель, — ис дружелюбной улыбкой».
— Добрый вечер, — сказал монах, стоящий посередине. — Мы не хотели вас напугать.
Я не была напугана, и только теперь, когда средний монах это произнес, я испугалась, словно свидетель, без сомнений опознавший преступника. У меня закружилась голова, я сделала шаг вправо — не потому, что меня что-то подбивало снаружи или изнутри, а потому, что, когда монах, стоявший посередине, сказал «Добрый вечер», я догадалась, что он одним движением перевернет всю мою неохватную жизнь.
Я всегда считала, что ничего такого нельзя заранее предчувствовать, но здесь, на ульхеке, я заметила, что все-таки можно.
— Что вы здесь делаете? — спросила я, потому что это был соразмерный вопрос к тому, кто подступается к моей жизни.
— Медитация ходьбой, — сказал монах. — У нас только что было заседание вон в той деревне, — он показал себе за спину, это означало «за лесом», — в доме с этим достославным названием.
— Дом самоуглубления, — подсказала я.
Одна вдова в соседней деревне несколько лет назад переоборудовала свой дом в резиденцию для гостей и сдавала его чаще всего на выходные группам терапии. Когда я была еще ребенком, в моду вошла крикотерапия. Иногда мы с Мартином захаживали в соседнюю деревню, и из Дома самоуглубления слышались пронзительные крики, а рольставни всех окружающих домов были опущены. Мы с Мартином находили все это веселым и кричали в ответ так громко, как только могли, пока какой-то отчаявшийся местный житель не вышел из своего дома и не сказал: «Вот только вас еще не хватало».
— А вы? — спросил монах посередине.
Он еще был тогда «монах посередине», у него еще не было имени, он еще мог оказаться Йорном или Сигурдом, что было бы неудачно перед лицом того еще не свершившегося факта, что в следующие годы мне придется семьдесят пять тысяч раз произносить это имя и сто восемьдесят тысяч раз повторять его мысленно.
— Я ищу Аляску, — сказала я.
Один из монахов начал посмеиваться, он был приблизительно в возрасте, какого к этому времени достиг крестьянин Хойбель.
— Это метафора? — спросил монах посередине.
— Нет, — сказала я, но потом подумала про моего отца и доктора Машке. — Да, — сказала я, — это и метафора тоже. Но в первую очередь это собака.
— Когда она убежала?
— Я думаю, прошлой ночью, — сказала я, потому что время расплывчато, потому что больше уже не знаешь точно, что значит прошлая ночь и что будущая, когда догадываешься, что жизнь вот-вот перевернется.
Монах посередине посмотрел на древнего монаха, тот кивнул.
— Мы вам поможем, — сказал он после этого.
— Искать собаку? — спросила я, потому что в размытое время становишься тугодумом.
— Вот именно, найти собаку, — сказал монах.
— Искать, — поправила я.
— Найти, — настаивал он.
— Это приблизительно одно и то же, — заметил древний монах.
— Вы буддийские монахи, — сказала я, и все трое кивнули, как будто это был ответ на вопрос викторины с дорогостоящими призами.
— А как выглядит ваша собака? — спросил древний монах.
— Большая, серая и старая, — сказала я.
— Хорошо, — сказал древний монах, — мы рассредоточимся.
Он развернулся и пошел прямиком назад, в лес. Второй монах повернул направо. Тот монах, который был монахом посередине, скользнул ладонью по моему плечу и улыбнулся мне. Его глаза были очень голубые, почти бирюзовые. «Голубые, как Мазурские озера», — скажет потом Сельма. «Голубые, как средиземноморская синь под средиземноморским солнцем», — скажет потом Эльсбет. «Это скорее цианисто-кобальтовая, синеродная голубизна, если быть точным», — скажет оптик. «Голубые они и есть голубые», — скажет Марлиз.
— Хотите, пойдем вместе? — спросил он. — Меня, кстати, зовут Фредерик.
Мы шли рядом, мы смотрели во все стороны, и снова и снова я поглядывала на Фредерика краем глаза, как Сельма во сне смотрела на окапи. Фредерик был рослый, он закатал рукава своего кимоно, руки у него оказались загорелыми, как будто он только что вернулся из летнего отпуска, на темной коже выделялись светлые волоски, и было ясно, что и на голове у Фредерика были бы светлые волосы, если бы он их не сбривал.
Мы долго ничего не говорили. Я лихорадочно соображала, о чем бы его спросить, но поскольку вопросов бывает слишком много, когда рядом с тобой по ульхеку вдруг идет буддийский монах, который собирается перевернуть твою жизнь, то все вопросы переклинивает, и ни один нельзя отделить от другого.
У Фредерика же, судя по его виду, не было никаких вопросов. Я думала, что у буддийских монахов, возможно, в принципе не бывает вопросов, но это оказалось не так. Фредерик рядом со мной тоже размышлял, с какой стороны подойти к переклинившим вопросам. «А ты как думала, — написал он много позже, — такое ведь случается не каждый день».
Фредерик полез в карман своего кимоно и достал шоколадный батончик «Марс». Развернул его и протянул мне:
— Хочешь?
— Нет, спасибо, — сказала я.
— А что за собака Аляска?
— Это собака моего отца, — сказала я.
Мы шли по ульхеку. Фредерик ел свой «Марс», то и дело поглядывая на меня, а потом снова на ландшафт, который будто принарядился — как Эльсбет в воскресенье, ожидая гостей; колосья и впрямь золотились, на небе ни облачка.