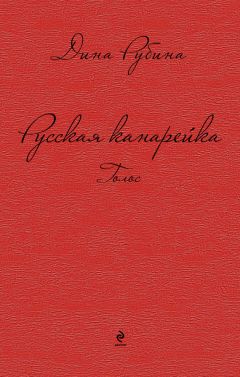Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
— А что такое хороший район? — подхватил он и сам же себе ответил: — Это приличная публика. И значит, хорошая школа.
В обычной городской школе в районе иерусалимских трущоб Леон уже освоился. Половина учеников седьмого класса охотилась за косячками, четверо нюхали «коку», многие подворовывали. И все поголовно курили — это считалось само собой разумеющимся. Курить Леон попробовал в первый же день, но сразу и бросил: ему не понравилось першение в горле и удушливый запах дыма в носоглотке. (Всю жизнь «горловые страхи» преобладали у него над стремлением к любым удовольствиям.)
Учителя в этой школе менялись со скоростью кадров в рекламном клипе; чуть дольше задержались математик, гигант с громовым голосом, перекрывавшим лавину визга и воплей на уроках, и шепотливая историчка, сразу после звонка впадавшая в нирвану, чтобы до конца урока тихо дрейфовать за своим столом, как тюлень на льдине.
Но Владке школа нравилась. Однажды она случайно завернула туда во время большой перемены, пришла в неописуемый восторг и с тех пор повторяла:
— Коллектив дружный! Ребята веселые, звонкие! Чего еще? Очень хорошая школа!
Что касается Леона, он всерьез подумывал бросить учебу и устроиться куда-нибудь, где платят такой мелюзге, как он, хоть мизерные деньги. В пекарню «Энджел», например; там и воровать не нужно — там булки после смены за так выдают.
При всей его самоотверженной экономии их банковский счет пребывал в глубоком обмороке.
Лучшей школой в Иерусалиме и одной из лучших в стране считалась университетская теплица с профессорами-преподавателями и отборными ребятами из состоятельных интеллигентных семей. Попасть в нее было непросто. Вот разве что живешь ты за углом и, согласно закону, приписан к данной школе «по месту жительства», а значит, ни одна чистопородная ма́ми из родительского комитета не посмеет морщить холеный носик и чинить препятствия твоему воссоединению с отпрысками элиты общества.
В тяжелой связке ключей, что болталась у Аврама под брюхом, изрядный вес занимали ключи от жилого дома, некогда перестроенного его отцом из огромного каменного ангара, в котором еще прадед держал самую большую в окрестностях Иерусалима кузницу. Квартиры — их было четыре — Аврам сдавал, подкапливая на приданое дочерям, — уж больно район замечательный: тут тебе университет, тут тебе Кнессет, тут вот концертный зал и музыкальная академия имени Рубина; тут — оглянись только! — все удовольствия, что можно просить от жизни.
А при доме подсобка была в полуподвале, «печаль и ветошь давних дней», по словам самого Аврама: квадратное помещение метров в тридцать, где от многих поколений жильцов копился брошенный или забытый при переезде хлам. Эту самую подсобку Аврам давно планировал пустить в оборот: переделать в квартирку и сдавать, например, студентам — те, как известно, могут жить и в конюшне, и в мусорном баке, и в почтовом ящике. Его большое торговое сердце не позволяло вселить туда Владку с Леоном за просто так — да и с чего бы? Но за уборку двух подъездов… почему бы и нет? Подумаешь, работа для здорового парнишки — дважды в неделю мокрой тряпкой по ступеням пройтись!
И Леон ухватился за предложение обеими руками: в их бюджете высвобождались приличные «квартирные» деньги. Чем черт не шутит — может, удастся вылезти из долгов и даже платить за музыкальную школу? Тем более что специальная музшкола при академии Рубина тоже находилась чуть ли не за углом. Вот о чем тосковал он безутешно: о театре, о кларнете, о милом ворчуне и охальнике Григории Нисаныче. Короче, о Музыке.
* * *Подсобка выглядела ужасно: затхлая, пропахшая пылью и плесенью, с двумя окошками на лестничный пролет, сизыми от корки застарелой грязи. Полуподвал, заваленный ящиками, узлами и обломками старой мебели.
Но Аврам привел двух рабочих-арабов из своего супермаркета, и те буквально за день расчистили помещение, выкинув на помойку столетнее барахло. Леон деятельно им помогал и поживился керосиновой лампой с дымчато-сиреневым стеклом, фонарем с винного завода «Кармель Мизрахи», медным подсвечником и машинкой «Ремингтон» с четырьмя выломанными буквами. Еще ему достался сине-бархатный альбом с фотографиями членов какой-то разветвленной семьи конца девятнадцатого столетия: галстухи, банты, оборки, трости, шляпы и шляпки, бороды и пейсы, кудряшки на алебастровом лбу. И круглое стеклышко в глазу добродушного пузатого старикана в хромовых сапогах.
Но главной добычей стали на диво сохранные лаковые дамские туфельки на медных пуговичках и помятый котелок времен Британского мандата на Палестину — смешная круглая шляпа, в которой физиономия Леона, когда он нахлобучивал котелок на голову, менялась до оторопи.
Его внешность всегда решительно менялась от любой, даже незначительной детали, не говоря уже о таких штучках, как парик или приклеенные усики. И дело не в деталях, не в одежде или прическе, а в самом Леоне: прикидывая на себя чужую шкуру, имя и легенду, он полностью преображался внешне. Менялись даже походка, наклон головы, манера говорить; появлялись новые жесты, которые, надо сказать, он всегда тщательно продумывал…
Владка окинула взглядом улов своего «барахольного» сына и носком туфли, как дохлую крысу, пошевелила круглый фонарь на полу.
— Больной на всю голову! — заключила она. — Хламидиоз тут развел, прям как в Одессе…
Те же рабочие побелили стены, поставили две гипсовые перегородки, приволокли газовую плиту, унитаз и душевую кабину, разом превратив полуподвал в крошечную, но уютную полуторакомнатную квартирку с кухонным уголком. А Леон уже сам вдохновенно отдраил оба полукруглых окошка — да, маленьких, но не лишенных некоторого переплетного изящества; отдраил их до чистоты богемского хрусталя, так что сам залюбовался. И Аврам явился, осмотрелся, растрогался — и совсем уж расщедрился: велел поставить две батареи, так что потом, холодными иерусалимскими зимами в полуподвале всегда было тепло.
Еще там обнаружилась арка в стене, которая никуда не вела, — стрельчатая ниша в полметра глубиной. Леон сам навесил внутри полки и очень красиво расставил все свои трофеи: «ремингтон» в центре, по бокам — фонарь и лампу. А одно из платьев Барышниного «венского гардероба» — самое изящное, кремовое, с кружевами валансьен и с черной бархоткой — повесил на плечики и на стенку; и к черту идиотские Владкины замечания.
Полуподвал сразу очнулся, зажил и превратился в уютное обиталище: то ли каюта корабля, то ли семейная часовенка.
В эту симпатичную сумрачную берлогу перекочевала и кое-какая старая мебель, собранная Аврамом у жильцов: лично ходил по квартирам на предмет «отдайте чего не жалко хорошей женщине с ребенком». Владка на это фыркнула: «Стыдобища!» — но милостиво приняла еще очень приличный секретер, кушетку, на которой Леон проспал до самого своего отъезда в Россию, и кое-что из утвари, среди которой обнаружились даже пять гарднеровских чашек с тремя целыми и двумя чуть треснутыми блюдцами.