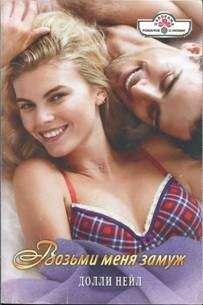Александр Терехов - Каменный мост
– Какие соображения, Александр Наумович?
– Аккуратный человек. Вопросов по нему много. Обстоятельства гибели дочери, похоже, никому не известны в подробностях. Что советовал Уманскому Эренбург? Получается, эти советы могли спасти Нине жизнь? Неясные повороты в биографии… Выясню, действительно ли Уманского знал Сталин. Взрыв самолета – это вообще… отдельная тема. Меня больше всего заинтересовало… – Гольцман оторвался от разглядывания моря и повернулся ко мне (напряженное, тяжелое лицо, ярко-голубые, до старческой прозрачности глаза). – Литвинов. Молотов. Громыко. Три министра. Вся внешняя политика Советского Союза. И каждый знал Костю. Громыко не любил и постарался, чтоб Уманского забыли. Литвинов и Молотов, как мы знаем, ненавидели друг друга. Но почему Молотов не тронул Уманского, когда Литвинова посадили под домашний арест и всех его людей репрессировали? И когда Литвинова вернули и отправили на смену именно Уманскому в Штаты, Костю отозвали, но – опять не тронули. И доверили через два года Мексику. Чей же он был человек? Почему мы начали с него?
– Отец и мать Шахурина дожили до старости, с той стороны мы кого-то застанем в живых. А жена Уманского погибла с ним в самолете в 1945 году; много ли осталось людей, видевших их живыми, – здесь надо спешить… Родители жертвы больше заинтересованы в расследовании, чем родители убийцы. Меня зацепило другое. Сумасшедший мальчик на вернисаже утверждал: Нину убили третьего июня. Уманский улетел в Мексику четвертого. Так безумно любил свою крошку, что не задержался, чтобы похоронить?! Бедный папа. Мы поднялись.
– Это все надо проверять. Тебе Костя уже не нравится. Тяжело ему придется. Может, тебе будет любопытно. Вот что мы изъяли в архиве внешней политики, из дела № 1300. Двести долларов стоило. Я расходы записываю.
Я вытряс из конверта двадцать две фотографии: тощий еврей с щелястой улыбкой, густая шевелюра; вот он на пароходе, забрался на верхотуру и расставил широко ноги под толстой трубой, что-то там из себя представляя; вот он уже обрюзг и заматерел, в профиль, с открытым лбом; а вот опять помоложе – приятное актерское лицо; с седеньким Бернардом Шоу у открытого авто, за спиной кремлевские башни; начесанный малыш Костя, щечки, высокие ботиночки, бадминтонная ракетка в белой лапке; а вот лицо покойника – на аэродроме в Мехико, долго добирался, но все Нина перед глазами… в группе иностранцев, обсевших как мухи Царь-колокол, четырнадцать человек, по левому краю фотографии наш человек в фуражке и галифе, единственный, кто в объектив не смотрит; жена у мертвого бетонного забора отвернулась от поля, усаженного мертвыми кактусами, дочь убили, и ей не хочется жить; мексиканские старухи с крестьянскими мослами у роскошных гробов жертв авиакатастрофы; мама т. Уманского – дородная тетя с мужским лицом; с Горьким и Уэллсом, в петлице, кажется, георгины и по цветку на столе перед каждым; речной берег, пятилетняя пышноволосая девочка идет по траве, подтягивая белые трусы, за ней счастливо жмурится отец и – я приостановился – две переснятые газетные вырезки с почти одинаковыми фотографиями за 13 апреля, понедельник, Вашингтон и штат Небраска, подписано что-то вроде «Константин Уманский, новый советник советского посольства, с маленькой дочерью Ниной запечатлен на борту лайнера „Париж“ по прибытии в Нью-Йорк».
Предпоследнюю фотографию я подольше подержал в руках. Красивая девчушка в хорошем теплом пальтишке, беретка на затылке, прижалась к молодому красивому отцу, засунув руку за воротник его пальто, Уманский присел, и дочка словно повыше его ростом – светятся лица, совершенно одинаковые глаза смотрят в мир.
– Одинаковые глаза. И зубы.
– Вот еще одна фотография. Посмотри внимательней. Уманский, нацепив очки, почти отвернувшись от фотографа, обеими руками крутит ручки настройки радиоприемника. Справа, похоже, балкон. То ли шторы, то ли обои. На крышке приемника портрет императора и кофейная чашка на блюдце. Хорошо выглажен пиджак – стрелки видны…
– Портрет Сталина, – показал Гольцман. – Видишь, на нем что-то написано, внизу наискосок. Можно разобрать «т. Уманскому», а подпись и дата неразборчиво. Неужели Хозяин подписал ему свою фотографию?
– Надо узнать.
– И еще: написал ли мемуары Громыко, – размеренно произнес Гольцман. – Кстати, рассказ «Дама с собачкой», говорят, – любимый рассказ Сталина.
Ищейки и собаки
По телефону я дал объявление в крымской газете «Кафа»: «Организация купит оловянных солдатиков производства СССР. От пяти гривен». Затем я рассчитал, что посмотрю первые пятнадцать минут «Веселые и раздетые» и переключусь на прошлогодний «Манчестер Юнайтед» – «Болтон» в серии «Лучшие матчи премьер-лиги», а потом после ноля тридцати на местном телеканале наверняка начнут раздеваться. Еще оставалось сорок минут, и я пролистал «Даму с собачкой» – рассказ про «будничный ужас жизни», как написано в предисловии. Каждую строчку пытался примерить на Уманского – как подростки моего времени подрисовывали усы, очки и битловские патлы членам Политбюро на газетной полосе.
У героя дочь двенадцати лет. Женили его рано. Жена постарела быстрее, чем он, и оказалась неизящной грозной дурой, домой ноги не несли. Сам он филолог, но служит в банке. И трахает потихонечку подходящих на стороне. Зацепил на курорте маленькую блондинку, муж у ней из немцев и «лакей». Она вернулась с курорта домой, а он что-то не может ее забыть. И находит. Я так страдаю, говорит она, я все время думаю о вас. Начали встречаться по гостиницам. И на пути в одну из них, провожая дочь в гимназию, объясняя на ходу, почему зимой не бывает грома, он вдруг понимает, что живет двойной жизнью, что самое важное он вынужден прятать, на свету одна ложь. Походы с женой на юбилеи, работа в банке, споры в клубе – и так, наверное, догадывается он, у каждого. У каждого.
Оба плачут, что прячутся как воры, немного я прочел подряд: «Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что это любовь изменила их обоих».
И туман в конце: что-нибудь придумаем. Чтоб больше не прятаться. Не разлучаться. Хотя не в рассказах с этого места и начинается страшное. Не совсем, правда, ясно, куда денется дочь. Чехов, кажется, остался бездетным, дети казались ему несущественными деталями.