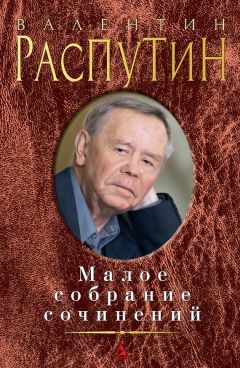Валентин Распутин - Прощание с Матерой
Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к той поре и вовсе избаловался, ничего не хотел делать: туркали с места на место, с работы на работу, и нигде от него проку, всюду старались от Петрухи поскорей отбояриться и не скрывали этого даже перед ним – он лишь похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая говорить посильней, пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то удовольствие. Ничем Петруху пронять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз – колхоз, умирая, мог быть доволен: наконец-то он избавился от этого работничка.
Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза каким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом улетывали от него через Ангару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра – это его не касается, короткие разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на совхоз и отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об охотничьей артели, хотя из ружья за всю свою жизнь стрелял только по бутылкам, да и то мимо. А в последнее время стал сниться ему север с большими рублями… Но до севера только доехать надо терпение иметь, а у Петрухи его не водилось ни капли.
Вот и посудите теперь, каково быть матерью такого человека. Боялась Катерина: чья душа во грехе, та и в ответе, поэтому вину за Петрухино сумасходство перекладывала на себя. Она говорила:
– Дак ежли он такой и есть – че с им самдели? Голову на плаху?
– А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней степени? – подхватывала Дарья. – Он избу сжег, ты ему слово сказала?
– Сама говорела: так и этак бы сожгли…
– Да не своей же рукой! Как она у его не отсохла, что спичку чиркала?! Это надо камень заместо сердца держать, он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперед всех спалил! Ну!
– Он, может, самдели незначай.
– Вот христовенькая, вот христовенькая! – приходила Дарья в восхищение. – Ишо бы – конешно, незначай. Он тебе сам ее срубил, богачество нажил – золотые руки у твово Петрухи. Пошто бы нарочно он сжигать ее стал – эва че придумали про мужика. Незначай, незначай…
Катерина умолкала.
– А как такие люди получаются? – пыталась она понять – не в первый раз пыталась понять и знала уже, что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют они ни в чем разобраться. – Он с малолетства беспутный. Ты говоришь: я исповадила. А че я исповадила? Никакой сильно повады не было. Я с им и добром, и по-всякому – дак ежли он уродился такой. Он маленький был, ниче не хотел понимать. Глаза заворотит – и хошь говори ты ему, хошь кол на голове теши. Много ты с ребятами возилась?
– Когда мне с имя было возиться? С темна до темна в беготне.
– А все люди. Ни один не свихнулся. Мне его баловать тоже… не до баловства было. В запустенье, правда что, не ходил. Старалася. Я погляжу на Клавкиных ребятишек… лучше самдели с мачехой жить. Родная она мать, да не своим деткам. Ни уходу, ни привету – на подзатыльниках да на кусках, бедные. А какие славные ребятишки, ласковые, послушные… С чего, с каких дрожжей, ежели она только и знает, что собачиться? Она, че ли, воспитала?
– Н-ну, – хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом Клавке.
Речь шла о Клавке Стригуновой.
– Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют – человек выходит. Другого никакая лупцовка не берет – был разбойник и вырос разбойник. Одного нежат – на пользу, другого – на вред. Это как? В ком че есть, то и будет? И хошь руки ты об его обломай, хошь испечалься об ем – он свое возьмет. Никакой правью не поправить. Так, че ли? Ты говоришь: я не спрашиваю с его. Царица небесная! Я надсадилась спрашивать. А тепери самдели отступилась, вижу, что без толку. Теперь какой есть, такой и есть. Вся злость вышла… жалость одна, что он такой. Дак не на плаху же, самдели? Пущай как хочет. Ему жить.
– Дак ты тоже не из могилы это говоришь. Тебе тоже доживать как-то надо.
– А-а, че будет, – отмахнулась Катерина. – Мы уж тепери так и так не своим ходом живем. Тащит. Куды затащит, там и ладно.
– Что тащит… правда, что тащит, – согласилась Дарья.
– Потом оне же, Клавкины ребяты, вырастут, – подчищая разговор, вернулась Катерина, – и будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят: какой привет – такой ответ… а-а, – несогласным стоном протянула она, – ниче не сходится. Кому как на роду написано. Мало, че ли: другая мать дюжину их подымет и живет на старости с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то постесняются галиться. А свои, как право им такое дадено, до того лютуют… злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфену?
– А не доживай до этакой старости, – вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья. – Знай свой срок, – и пригасила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать. – За грехи, ли че ли, за какие держит господь боле, чем положено. Ой, страшные надо иметь грехи, чтоб так… Где их набрать? Человек должен жить, покуль польза от его есть. Нету пользы – слезай, приехали. Нашто его самого маять, других маять? Живые… им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать. Я потаскала, знаю. Из-под меня скоро с-под самой хошь таскай, мигом от горшка до горшка долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на ее смотрела. А то и смотрела, – непонятно на что опять осердясь, продолжала она, – что думала: «Когды тебя бог приберет? Надоела хужей горькой редьки». Это мы с ей ишо хорошо жили, она покладистая была. А я была небрезгливая. А помню: до того мне под конец тошно к ей подходить. Навроде все понимала, что она, христовенькая, невиноватая, а все равно ниче с собой сделать не могла. Не могу, и все, хошь из дому беги. И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом так лежала – я бы тоже ей смерти хотела? Сама отговариваюсь, а сама слышу, издали голос идет: а тоже хотела бы. Пущай не так, и терпения давала бы поболе, а в худые минуты тоже про себя, поди, срывалась бы. Это уж и не от меня идет – от чего-то другого. Нет, Катерина, старость запускать нельзя. Никому это не надо.
– Дак че – удавку, че ли, на шею? Дарья не стала отвечать.
– И хоронют оне нас, плачут… оне плачут не об нас, кого в гроб кладут, а кого помнют… какие мы были, – говорила она. – И жалко нас… потому что себя жалко. Оне видят, что состарются, нисколь не лучше нас будут. А без нас оне скорей старются. Про себя оне нас раньше похоронили. Вот тогда бы и убраться, скараулить тот миг. А мы все за жисть ловимся. Че за ее ловиться – во вред только. Помоложе уберешься, тебя же лутше будут помнить, и память об тебе останется покрасивей. Побольней останется память, позаметней. А ежели в гроб тебя, как кащею, кладут – дак ить глядеть страшно. Такая страхолюдина всю до-прежнюю память отшибет…