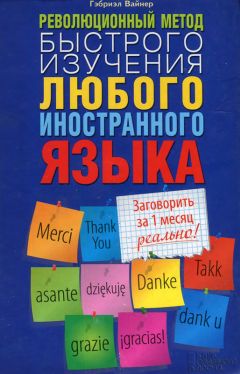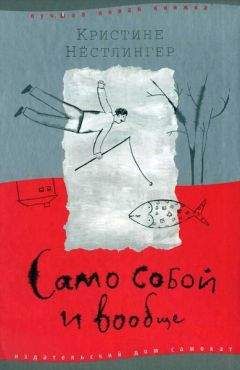Константин Смелый - Кругом слоны, Миша
28 января. Секс, много страсти. Очень хорошее настроение. Простуда. Разговор о будущем.
4 февраля. Пропажа без вести. Перчатки, забытый мобильник. Через неделю поменять замок. Отвезти обратно папин стол. Принести мебель от дяди Геры. Навести порядок в комнате. Всё.
Если не считать развалившегося стола, всё прошло, как по нотам. Дата в дату, сцена в сцену. Только под занавес Вера Кукушкина отошла от сценария и пропала на день раньше срока.
Третьего февраля (если помните, был понедельник) Полина взяла отгул на вторую половину дня. В районе часа мы встретились с ней на Радищева, чтобы ещё раз проговорить детали грядущей развязки. Тогда, под занавес, речь впервые зашла о Швеции; Полина привезла целую пачку листовок с рекламой курсов скандинавских языков. Помню, сначала она ошарашила меня заявлением, что передумала с Вами разводиться. Увидев смятение на моём лице, тут же успокоила: на то есть шкурные соображения.
Полина резонно предполагала, что после Веры Кукушкиной прежняя жизнь встанет Вам поперёк горла. Вы захотите удрать из клиники, где Вы впервые увидели Веру, из города, где Вы с ней встречались, от памяти, которая будет душить Вас по поводу и без повода. Иными словами, встряска Верой Кукушкиной могла подвигнуть Вас на какие-то действия (по выражению Полины, «сдвинуть его с задницы»), и эту деятельную энергию следовало направить в мирное русло. Полина рассказала, что всегда мечтала переехать в Швецию, а шведам не хватает зубных врачей в провинции, они приглашают специалистов из Восточной Европы, и она не раз заговаривала с Вами об этой возможности, но Вы огрызались или не обращали внимания. Той зимой Полина поняла: чтобы информация о Швеции отложилась у Вас в сознании, она должна исходить из источника, который имеет для Вас хоть какое-то значение. Полина позвонила Березиной, заведующей Вашей клиники. Судя по всему, Березина ценила Вас как стоматолога, но испытывала к Вам сильную антипатию и потому охотно согласилась посоветовать Вам работу в Швеции. Она выполнила своё обещание в конце января.
Тогда же, за несколько дней до исчезновения Веры Кукушкиной, Полина подобрала в подъезде Вашего дома листовки с курсами скандинавских языков — как часто бывает, распространитель сунул часть листовок в ящики, а оставшуюся кипу просто бросил сверху. Помню, я захлопала в ладоши, когда Полина рассказала, зачем привезла листовки. Реклама шведского языка в комнате Веры Кукушкиной казалась мне гениальным ходом.
Всю спецоперацию мы называли «Мишкина любовь». Затея с переездом в Швецию была практическим ответвлением «Мишкиной любви», но, в силу своей важности, требовала отдельного наименования. Полина предложила «Хоть шерсти клок». Я тоже что-то придумала, ещё более злое, и мы сидели на диване, по уши довольные собой. Смеялись, ждали чая и были счастливы, пока не позвонили Вы и не сообщили, что готовы заехать вне графика.
Полина держала руку в промежутке между сиденьем и боковой стороной дивана. Я забыла предупредить её, что там в одном месте из ткани торчит лопнувшая пружина. Когда я, сделав большие глаза, показала Полине Ваше имя на экране телефона, она дёрнулась от неожиданности и разодрала основание ладони. Отчётливо помню, как она морщилась и зажимала кровь другой рукой, пока я говорила с Вами, а потом сказала что-то вроде «импровизация — залог успеха» и, встав с дивана, стала методично ронять капли крови на пол. Поначалу я была против (помню, даже повысила голос): во-первых, мне казалось, что кровь на полу вынудит Вас обратиться в милицию; во-вторых, я опасалась, что Вы увидите свежий порез на руке Полины и задумаетесь. Полина заверила меня, что связываться с милицией у Вас не хватит смелости в любом случае, а чтобы Вы хоть что-то заметили, нужно пойти к дяде Гере и сунуть всю руку по локоть в станок для изготовления ключей.
(Полина оказалась совершенно права и в том, и в другом: пластырь на её ладони Вы увидели только под конец недели. Она объяснила, что накануне поранилась на работе.)
Прокапав дорожку в сторону двери, Полина пошла смывать кровь на кухню — там у хозяйки комнаты хранилась аптечка с перевязочными материалами. Я кое-как затолкала лопнувшую пружину в толщу дивана, чтобы причина кровотечения не казалась слишком банальной; затем раскидала по видным местам листовки с языками. На одном из них обвела шведский жирным синим овалом. В общей сложности, я разложила в комнате семь листовок.
Через неделю я вернулась на Радищева вместе с другом, чтобы поменять замок. Шесть листовок нетронуто лежали на своих местах; седьмая была свёрнута вчетверо. Вы начали писать записку Вере на оборотной стороне («Не заст»), но, видимо, передумали и, свернув, оставили листовку на столе.
Несколько месяцев Полина тщетно ждала результата. Она регулярно заговаривала с Вами о работе за границей, она так и сяк вплетала в разговор Швецию, но реакция была нулевой. В начале осени Полина пришла к выводу, что операция «Хоть шерсти клок» потерпела фиаско. Мы просчитались. То ли что-то переоценили (собственную хитрость? Вашу память? Вашу любовь к Вере Кукушкиной?), то ли недооценили (Вашу невнимательность? шок? инертность? неприязнь к Березиной?). Как бы то ни было, Полина сообщила мне, что уйдёт от Вас ещё до Нового года, и мы встретились, чтобы отпраздновать это решение.
Именно тогда, в качестве последнего средства, я предложила ей «найти» в Ваших вещах сложенную вчетверо листовку, причём чистую, без «Не заст» — чтобы облегчить Вам процесс вранья. Полина отнеслась к этой идее скептически, но я убедила её, что, в крайнем случае, Ваш мозг откорректирует воспоминание о листовке, т. е. Вы «вспомните», как брали её с собой и как хотели что-то написать, но передумали, так и не начав. (Это одно из базовых свойств человеческой памяти: мы помним не то, что было, а что «должно» было быть.) Я даже предлагала для верности обвести шведский овалом, хотя на Радищева Вы и держали в руках экземпляр, где овала не было. На такую корректировку прошлого Полина всё-таки не решилась, и правы, в итоге, мы оказались обе: Вы уехали в Швецию и без овала.
Вот, собственно, и всё. Если Вы испытываете именно то, что кажется мне наиболее вероятной реакцией на подобные откровения, я могу посочувствовать Вам. Однако я не собираюсь просить у Вас прощения. За прошедшие восемь лет я перестала сортировать людей и считать правду самостоятельной ценностью в контексте человеческих отношений, но моё отношение к Вам и к Полине не изменилось. Я знаю, что за это время Полина стала счастливей, и у меня есть основания полагать, что Вы не стали намного несчастней. Ваша дочь вырастет в благополучной стране среди открытых, приветливых людей. А если вернуться на восемь лет назад, уравнение становится ещё проще: Полина хотела отомстить Вам; я хотела побыть Верой Кукушкиной; Вы хотели спать с привлекательной пациенткой. Каждый получил то, что хотел.
В то же время, я в определённом долгу перед Вами. Пока я была Верой Кукушкиной, пока пила чай с вареньем на улице Радищева и донимала Вас эпистемологией и Витгенштейном, я поняла, что хочу заниматься только наукой — каждый день, с утра до вечера, как бы глубоко для этого ни пришлось залезть в академическое болото.
Кроме того, я косвенно обязана Вам выбором своего нынешнего университета. Вы наверняка помните, что в мае 20… года попали в аварию и пережили кратковременный «выход из тела». Вероятно, Вы помните и то, что несколько недель были не в себе, причём до такой степени, что однажды ночью, плача от страха, рассказали о своём выходе из тела Полине. Она, как могла, успокоила Вас, и позже пересказала мне Ваше описание случившегося. Именно тогда я заинтересовалась философской интерпретацией аутоскопии и других глобальных нарушений схемы тела. Зарывшись в эту тему, я неизбежно вышла на Томаса Метцингера и Майнцский университет. Всё то лето я корпела над заявкой, проверяла и перепроверяла грамматику, засыпала над словарями, тужилась наполнить каждую строчку гениальностью, отослала документы буквально за день до крайнего срока, и таки выиграла стипендию на двухгодичную магистерскую программу в Майнце. По окончании программы мне предложили остаться на кафедре в качестве аспиранта.
И это не всё. Я напрямую обязана Вам решимостью уехать из Петербурга.
Сразу же после исчезновения Веры Кукушкиной я постриглась, перекрасила волосы и стала чаще носить очки вместо контактных линз. Я полностью сменила гардероб. Для перестраховки я даже бросила клиентку, жившую недалеко от Вашей клиники. Поначалу я совершенно не боялась; напротив, заметала следы с удовольствием. Конспирация казалась мне продолжением спектакля — как будто в трагикомедии о любви дантиста Миши к Вере Кукушкиной случился шпионский поворот. Я выбирала причёску и новую одежду так же, как обставляла комнату на Радищева: с творческим азартом, шутя и ни секунды не сомневаясь, что это всего лишь игра — моя собственная игра по моим же правилам.