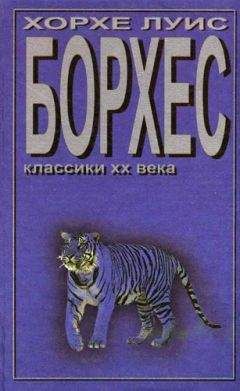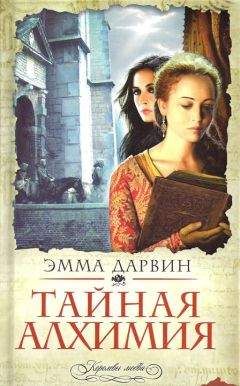Эмма Герштейн - Лишняя любовь
Неожиданно раздался междугородный телефонный звонок. Подзывают брата. Я видела, как он разговаривал с выражением полного недоумения на лице. Это была
Ариша. Она обращалась к нему на “ты” и кричала. Вскоре посыпался град безграмотных писем, кем-то написанных по установленному опытными вымогателями образцу. Для вящей убедительности указывалась точная дата, когда произошло мнимое происшествие. Мой брат отнесся к этой истории чрезмерно спокойно.
Получив повестку в народный суд, он пошел к судье до заседания и установил свое алиби, кажется, показав справку об отсутствии в Москве в указанный день. Но защитница Ариши не смутилась: “Бедная неграмотная женщина, разве она может помнить дни и числа при таких переживаниях?” – и вычеркнула дату из иска гражданки Грачевой. Суд, конечно, присудил брату платить алименты до достижения новорожденной восемнадцати лет. Потянулось длительное, выматывающее нервы дело. У Грачевой появился новый образованный адвокат. Он даже
Достоевского читал. Указание на безобразную внешность Грачевой ловко отвел, ссылаясь на Федора Карамазова, польстившегося на Елизавету
Смердящую. Так или иначе, история, воспринятая нами вначале как анекдот, закончилась тем, что из зарплаты моего брата долгие годы вычиталась третья или четвертая часть на содержание девочки Грачевой, которая была названа матерью в честь своей бывшей хозяйки Надей.
Эта история оказала гнетущее действие на моих родителей. От последних иллюзий светлой новой жизни волей-неволей приходилось отказываться.
Папа стал делать промах за промахом в меняющихся условиях жизни.
У него сохранялись хорошие отношения с Екатериной Ивановной Калининой до самого ее ареста. Я наблюдала это, когда уже после смерти Александры
Юльяновны папа опять лежал в Кремлевской больнице из-за двустороннего воспаления легких. Я приходила к нему туда, и при мне его навестила Екатерина
Ивановна. Я видела, как хорошо она к нему относилась, как поцеловала его, прощаясь.
Но когда она ушла, папа мне сказал, что он совершил неловкость: спросил, где сейчас Михаил
Иванович. Спрашивать о местонахождении такого государственного деятеля, как
Калинин, не полагается.
Несколько лет подряд папа проводил летний отпуск на даче (или в имении?)
Калинина – Мещеринове. Там он как врач наблюдал за здоровьем престарелой матери
Михаила Ивановича. Однажды папа мне сказал, что неудачно выступил на каком-то юбилее Калинина, вероятно, это было не официальное, а домашнее еще празднование. Он произнес тост непонятный для присутствующих и несколько витиеватый.
В другой раз, желая обыграть свой почти преклонный возраст, он начал свою речь словами: “Я здесь как самый старший…” Это не понравилось
Поскребышеву.
Было страшновато: кто не знает, что Поскребышев близок к
Сталину, он исполнитель тайных приказов. Но пронесло…
Еще одно неудачное выступление, и отец оказался на положении пенсионера, не дожив до семидесяти. Для его энергичной натуры, да еще придавленной горем, совершенно невозможно было существовать в бездействии. И тут выход был найден моей верной подругой Леной Осмеркиной.
Вообще говоря, она была необыкновенно экспансивна в своих домашних разговорах. То произносила речи о необеспеченной старости советского человека. То замечала, что в нашем обществе “нет завоеванных положений”. То едко высмеивала провизию, продающуюся в магазинах, особенно ее возмутили семенники быка, появившиеся на прилавках мясных отделов.
Ее домработница нередко вмешивалась в наши разговоры: “Елена
Константиновна, ну скажите, кто у нас доволен? Вы недовольны
(она имела в виду интеллигенцию), крестьяне недовольны, рабочие недовольны, служащие недовольны…
Кто же доволен? Партийцы?” Она была простодушна, эта няня, приехавшая в столицу из
Московской области. Пожалуй, не менее простодушна была и Надежда
Исааковна, мать Лены, но только ее простодушие было направлено в обратную сторону. Как и многие советские люди, она старалась не верить тому ужасу, который происходил кругом, рядом… Это обнаружилось, когда Лена рассказала о письме, полученном из лагеря от одной из ее товарок. Несчастная актриса писала, что на ее лице уже никогда не появится улыбка. Надежда Исааковна вспылила: “Ах, это красивая фраза!” Возник шумный спор между матерью и дочерью, как всегда, в повышенных тонах, но не враждебных. Они кричали, причем Елена прекрасным поставленным голосом.
Мой отец старался не понимать сущности происходящего – полного перерождения той системы, которой он сознательно и идейно служил с 1918 года, хотя и был беспартийным. Помню, он был ошеломлен моей репликой по поводу выступления
Сталина, очевидно на XVIII съезде партии. Я обратила внимание на фразу генсека о немцах, в которой сквозила какая-то новая интонация. “А у нас будет союз с
Германией”, – сказала я. Папа был поражен. Больше того, он был оскорблен. Но его реакция не была уже такой острой, как пять лет назад, когда я сказала, что Кирова убили свои. У папы уже не было сил противиться моей ереси.
Однако пока не арестовали Дину и Лялю, он допускал, что обвинения в адрес
“врагов народа” могли быть справедливыми.
И это в то время, когда “в воздухе чувствовался треск раскалываемых черепов”, по слову Николая Ивановича Харджиева, и “люди стали похожи на червей в банке”.
Николай Николаевич Пунин сказал тогда впавшим в апатию друзьям:
“Не теряйте отчаяния”!
Лена видела хроникальный фильм, снятый в Доме союзов на одном из знаменитых кровавых процессов над троцкистами. Кстати, там был и
Крестинский, отказавшийся на суде от своих показаний. На следующем заседании суда он почему-то стал плохо слышать. Было ясно, что в промежутке он подвергся энергичной физической обработке. Лена говорила, что особенно поразили ее конвойные, караулившие обреченных. В них не было ничего человеческого. О том же говорила ей Ирина
Валентиновна Щеголева, хлопотавшая об облегчении участи своей родной сестры
Муси (Марии Валентиновны) Малаховской, высланной из Ленинграда как жена
“врага народа”. “Ни молодость, ни красота, ни ум, ни сердце, ни талант – ничто не действует на этих людей”, по чьей воле был приговорен к десяти годам без права переписки, то есть к расстрелу, Б. Малаховский – талантливейший художник карикатурист, обаятельный, артистичный, чрезвычайно остроумный человек; Александр Александрович Осмеркин его просто обожал.
Мы с Леной называли Сталина Антихристом. Но для нее главным в
Сталине были кровожадность и жестокость, а для меня то, что он – растлитель. Конечно, он такой же вампир, как и фашистский фюрер, но если идеалом Гитлера был белокурый зверь, то Сталин стремился сделать всех подлецами. Злодеев и тиранов история видела немало, но развратителями были не все. Сталин погубил нравственно не только тех невинных, кого оставил в живых, но и людей из органов. Конечно, на эту работу шли люди, имевшие склонность к садизму, но были и такие, которые были доведены до звериной жестокости всей системой и круговой порукой всех сотрудников. Я считаю, что и такие являются жертвами Сталина.
Так мы разговаривали у себя дома. Много было таких домов. Жили тесными кружками, никого постороннего к себе не допускали. “Sans secsautes”, – любил каламбурить на французский лад покойный Малаховский.
В поликлинике Наркомпроса, где работал отец Лены – врач-терапевт, прекрасный диагност, кстати говоря, очень любимый больными, – открылась вакансия директора. Там же работала в зубном кабинете мать Лены. По их инициативе моему отцу было предложено это место, которое он и занимал до самой своей смерти в 1943 году.
Но именно эта работа, не связанная с ВИЭМом, где раньше работал отец, и поставила его под удар. Ему стали угрожать выселением. В ВИЭМе появился новый невропатолог, приехавший, кажется, из Харькова, и ему позарез нужна была квартира в Москве. Был выкопан указ или декрет 20-х годов, который практически никогда не выполнялся. Медицинское учреждение получало право выселять, без предоставления жилплощади, лиц, посторонних данному учреждению. Естественно, что когда в 30-х годах все углы и закоулки в больнице были забиты бежавшими от колхозов, выполнить этот указ не было никакой возможности.
Но новоявленный заведующий неврологическим отделением привез с собой нового завхоза, и они решили взять отца измором. Невропатолог распускал клеветнические слухи о прошлой деятельности моего отца, а его помощник вел с папой переговоры, намекая, что этому невропатологу надо многое прощать: если бы папа знал, на какой нервной работе он был раньше! Нам всем уже давно было ясно, что он служил в органах, и когда он наконец вселился в нашу квартиру, то не только не скрывал этого, а, наоборот, афишировал.
Но пока еще завхоз задушевным тоном убеждал папу отдать свой кабинет: “Вам не надо больше работать”.