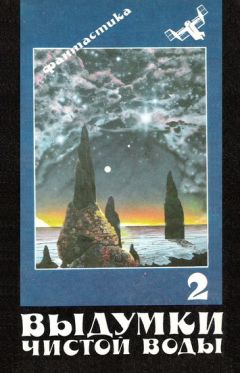Род Лиддл - Тебе не пара
Запах экскрементов и прокисшего молока проникает в каждый угол дома несмотря на то, что Джеймс целыми днями прыгает повсюду с флаконом «Глейда».
Он, конечно, старается по возможности держаться подальше от мерзкого созданьица, избегает даже находиться с ним в одной комнате, что ему, как правило, удается.
Избавленный от необходимости кормить грудью, он считает само собой разумеющееся оправдание настоящим подарком судьбы. Плюс к тому, он разработал хитроумную теорию, позволяющую ему уклоняться от еще худшей повинности — смены пеленок. В этом возрасте младенец «полностью зациклен на маме», вслух зачитывает он Анжеле из пособия для родителей. Подняв идиотский том повыше, цитирует: «…а значит, важно, чтобы отец не начал ассоциироваться исключительно с неприятными для ребенка вещами, такими, как смена пеленок, а мать — исключительно с тем, что доставляет удовольствие, например, с кормлением…»
Впоследствии все это может привести к серьезным проблемам, уверяет он жену.
И Анжела, слава богу, не особенно возражает против таких аргументов. По сути говоря, она испытывает настоящее наслаждение от этого грязного дела, несмотря на сплошную отупляющую скуку и неизбежную вонь. Конечно, она все время ходит усталая. Да и по друзьям скучает (они от нее шарахаются, как от чумы или дифтерита). Но Чарли она необъяснимым образом обожает и, даже когда поспать ей удается совсем недолго, безропотно вылезает из постели в три утра — кормить этого мелкого негодяя-эгоиста в такую рань. Джеймс всегда крепко зажмуривает глаза, когда она встает унять страдальческие жалобные вопли, несущиеся из кроватки у них в ногах. По правде говоря, в такие моменты он чувствует себя немного виноватым.
Но тут имеются и смягчающие вину обстоятельства: маленькое чудовище, кажется, не слишком-то любит его. Более того, оно, по сути говоря, затаило на него некую злобу. Джеймс прямо-таки боится моментов, когда Анжела, вся обмякнув, в изнеможении говорит: «Ты его не подержишь немножко?» — и противный куль переходит из рук в руки. В таких случаях Джеймс опасливо берет его и начинает покачивать по рекомендованной в учебниках системе. Но сидящее внутри создание ни на секунду не дает себя одурачить. Открыв свои большие черные глаза, оно упирает в Джеймса неподвижный взгляд, как тогда, в палате роддома. Оно даже не плачет, только глазеет; при этом на уме у него явно что-то недоброе. Этот взгляд не на шутку действует Джеймсу на нервы. Где оно научилось так глазеть? В этом возрасте ему еще рано уметь фокусировать глаза. Эта идиотская хрень — погремушка с разноцветными канарейками — для того и болтается постоянно у него над головой, чтобы учиться их фокусировать. Но на Джеймсе-то оно фокусируется без проблем. Фокусирует на нем свой холодный, сухой ненавидящий взгляд, а затем обычно срыгивает ему на рубашку.
Когда существу было недель шесть, произошло нечто странное. Анжела передала кулек Джеймсу и удалилась наверх, в спальню, вздремнуть. Прошлой ночью Чарли не давал ей спать дольше обычного. Теперь она была похожа на фотографию енота в сепии.
Как только она вышла из комнаты, Джеймс тут же положил куль в корзину типа моисеевой и сел с журналом на диван, почитать о хорошей одежде, привлекательных женщинах и спорте.
Оно начало плакать.
— Кончай орать, — велел Джеймс.
Плач продолжался.
— Я кому сказал, кончай, блин, орать, — повторил Джеймс.
Плач стал немного настойчивее.
Когда Джеймс подошел разобраться, существо умолкло, и он снова наткнулся на этот зловещий взгляд.
— Кончай пялиться, — сказал Джеймс.
Но существо продолжало пялиться.
Тогда Джеймс ткнул его в горло пластмассовой линейкой.
— Я кому сказал, кончай, блин, пялиться.
И снова ткнул.
Но оно лишь глянуло на него с тем же угрожающим выражением, а затем — вот это-то и есть самое странное — открыло свой писклявый рот и совершенно ясно произнесло:
— Дезайи.
Ошарашенный, Джеймс уронил линейку.
— Как ты сказал, засранец?
Попялившись еще немного, оно повторило: «Дезайи. Дезайи. Дезайи».
Джеймс грустно покачал головой.
— Ах ты, гаденыш недоделанный, — и с этими словами опять уселся за свой журнал.
Пару дней спустя Джеймс, уютно устроившись, лежит на диване, сраженный каким-то загадочным недугом. В течение тридцати шести часов он не двигается, не переодевается, охваченный то ли слабостью, то ли тошнотой, а может, и тем, и другим: рука заброшена за голову, на рубашку капает пот. У него почти не осталось сил даже на то, чтобы думать о своей болезни: не то пищевое отравление, не то вирусный грипп, а может, это тянет к нему свои пока не окрепшие щупальца что-то еще более грозное, что-то такое, что никогда уже не пройдет и в конце концов, после всех ужасов лечения, доконает его. Ох, как же он изможден и беспомощен.
Все это время Анжела вынуждена и хозяйство вести, и ухаживать за Чарли, плюс то и дело выполнять жалобные требования Джеймса. «Ты не могла бы мне принести немного сердечной настойки из кухни», — просит он время от времени. Эта непонятная напасть повлияла на его речь. Он постоянно использует слова «сердечная настойка», «лихорадка» и им подобные, будто бледноликая, чахлая героиня эпохального викторианского романа. Так он и проводит время в заключении: старомодно выражаясь и смотря гольф по спутниковому каналу.
Чарли тем временем продолжает какать, писать и есть, совершенно не замечая отцовских страданий. Но Джеймс, чье здоровье поправляется, а вид улучшается день ото дня, со своего наблюдательного поста на диване следит за маленьким существом со смесью опасения, подозрения и ужаса.
Даже выздоровление не приносит того радостного облегчения, которым, как правило, сопровождается отступление болезни. Вместо этого он дергается по поводу выхода на работу, а выйдя, целый день дергается на работе по поводу возвращения домой. Там его опять поджидают выходки, направленные, как он искренне полагает, против него лично.
Как вы, наверное, уже догадались, Джеймс больше не считает себя благословенным вообще ни в каком смысле. Наоборот, он начинает думать, что над ним тяготеет проклятие. Такое впечатление, что у него солипсическое, однозначное, черно-белое восприятие судьбы. Благословен или проклят, третьего не дано, причем маятник ежедневно раскачивается из стороны в сторону. Непонятно, откуда у него такое отношение к жизни — его же, в конце концов, не воспитывали анимистом или католиком. Но не менее непонятно другое: не является ли все то, что он, по его утверждению, видел собственными глазами, просто результатом по-детски воспаленного воображения. Как-то странно, что младенец шести недель от роду гулит «Дезайи». И потом, этот жуткий, действующий на нервы взгляд. Есть и другие обстоятельства, подкрепляющие Джеймсову уверенность в том, что дело тут нечисто — того и гляди, произойдет нечто страшное.
Например, по ночам дом словно рушится прямо на глазах. Джеймс лежит без сна в холодном поту, с широко открытыми глазами, в то время как стены, пол и крышу атакуют полчища ненасытных насекомых: щетинохвостики, мокрицы, жуки-пожарники, уховертки, долгоносики, тараканы, гусеницы, сверчки, клещи и прочая еще более мелкая шушера с незапоминаемыми и непроизносимыми латинскими названиями. В последнее время Джеймсу никак не удается отделаться от этого постоянного похрустывания. Иногда он поднимается с постели, где лежал рядом с Анжелой, украдкой идет выяснить, в чем дело, и в темноте довольно часто застает их, когда они жуют линолеум в кухне, прогрызают древесину плинтусов, постукивают в окна своими мягкими перепончатыми крыльями. При его появлении они бегут без оглядки, торопливо забираясь под шкафы и стулья или просто растворяясь в ночи. Недавно он несколько раз прятался за диваном в ожидании их прихода, чтобы выпрыгнуть оттуда в последний момент, как только они приступят к своим темным делишкам. Ха! — кричит он. ПОПАЛИСЬ! И начинает топать и рычать как безумный.
Как только Анжела умудряется их не слышать, думает он. Ничто кроме Чарли не способно ее разбудить. Она все спит и спит, ее утонувшее в подушке лицо светится молочно-белым, напоминая обитающих на дне океана странных рыб, чей счастливый удел — породившая их тьма.
Она не слышит ни насекомых, ни постоянного назойливого гула, который производят молекулы воздуха, сталкиваясь у них над головами, — ничего, одного лишь Чарли. А в сознании Джеймса эта непрерывная деятельность в глухой ночи выливается в дребезжащий мотив, заглушить который он не может при всем желании.
А тут еще эта птица в саду, впервые замеченная им несколько дней назад, большая черная птица, что сидит на крохотном квадрате лужайки и всматривается в кухонное окно своими черными глазами.
— Это ворона, Джим, — говорит Анжела.