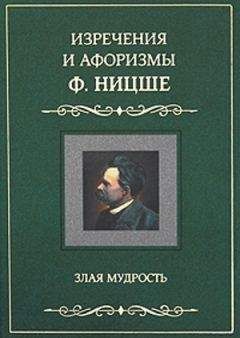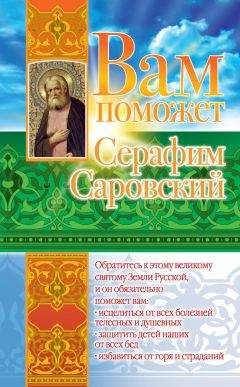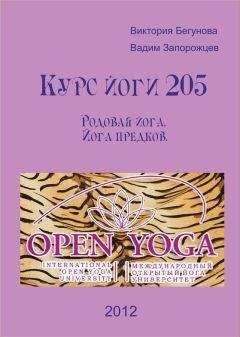Дина Калиновская - Парамон и Аполлинария
— Мир, девка, держится добром, а движется-то злом! — острила она в другое утро и сама подавала блокнот. — Вот оно, зло, едет, гляди.
Такой бугай, хочь запрягай! — комментировала она прохожего за окошком. — А ему — инвалидность, ему — семьдесят рублей каждый месяц. Уже машину купил. Не таращь глаза, иди умывайся, картошка сварена, и чай готов! — тут же командовала, как только я кидалась с постели к окну.
Потом она смотрела, как я одеваюсь.
— Колготки-то плести колготно, в две ноги разом надевать ли колготно, а скорее в магазине доставать колготненько?
Потом мы садились завтракать картошкой, бывало, с селедкой, бывало, с сушеными окуньками, с грибами. Баба Нюша не умолкала:
— Зятюшко мой приехал, попервости скомандовал иконы снять, подругости на дверь набил крючок толстецкий, сам в кузне заказывал. А я всю жизнь без крюков да без замков прожила, теперь запираюсь, характер испортила. А другой зятюшко, когда узнал, что жена в положении, очень обрадовался, да. Созвал родню, купил водки, консервов, конфет. А утром сказал, что пойдет за сигаретами и вот уже седьмой год ходит. Искать его не стали, люди видели, как в автобус садился. Хорошо, Еленка рожать не стала, не старые времена, можно. А ладная девка, смешливая… В Закозье живет, там работает.
А девки здешние — сама знаешь!.. Тут одна учительница — хочешь, не верь — свою же свадьбу и разорила!
— Ну да! — вставляю я для поддержания костра беседы.
— Вот тебе и да! — перехватывает и мое маленькое поленце баба Нюша и продолжает: — Жених — а дело ночное — говорит: пойдем, говорит, на летнюю половину, там, говорит, постелено. Она отвечает ему: неудобно мне, потому что в гостях учеников моих много. Давай, отвечает она ему, позовем их всех на улицу и пойдем на Поклонную гору все вместе рассвет встречать. Жених не против. Однако, говорит, надо у мамы спросить. Хорошо, она ждет, пока он с мамой посовещается. Посовещались. А мамка та да через весь стол да как засмеется: «Эко дело, неудобно!» Жених возвращается. Мама, говорит, не велит идти на Поклонную гору, а велит идти на летнюю половину, где постелено. Ну, она горячая, учительница-то, сразу вскочила — и на крыльцо, крикнула учеников по фамилиям: «Козлов, Зайцев, Петров да другой Петров!» — жениху объявила: «Не ходи за мной, оставайся с мамой!» И остался! Не пошел! Не посмел, или мамы побоялся, или подумал, что пошутит учительница да вернется, или как… А она — и не вернулась вовсе.
— Ну да?! — восклицала я.
— Вот тебе и да! — отвечала баба Нюша. — А сама-то цыганистая, нездешней красоты, а хорошая, в малиновом пальто ходит с золотыми пуговицами… А тут, когда монастырь распускали и монашенки подались по другим монастырям, одна, мать Таисия, никуда не поехала, ряску подрезала покороче, платок повязала поцветастей, пожила в слободе тихо, огляделась — и у самой здоровой бабы — толстой! красивой! — отбила мужа, и увезла его в Гагры, и стала там работать продавщицей в гастрономе! А сама маленькая, худенькая, неопрятная — люди дивились. Бывало, белье замочит — неделю гниет!
— Ну да?!
— Да! Тут поминки были по одному дедку. Приглашенная семья сидит — мама с дочкой. Дочка та годов семидесяти будет, маме — более девяноста. Гляжу, мама та одну стопку выпила, да другую, да за третьей тянется. Дочка ей тихо, штоб люди не слышали: «Ты што, старуха, с ума-то сходишь!» А мама ей громко, штоб все, значит, слышали: «Эдак ты мне скоро и хлеба не дашь!» Вот. А ты говоришь. Да чего там старухи! Внучки мои, Ольга с Татьяной, в третий класс ходят, маленькие летами, а на ночь развесят колготки по спинкам кроватей — по метру же каждая чулочина, ей-богу!
— Ну да?!
— А ты говоришь… Нет, земля у нас для мужчин неполезная.
Как-то к вечеру нашу пудовую, с двух сторон обитую мешковиной дверь толкнул сам председатель. Вошел, грузно сел у порога на лавку, поздоровался, спросил меня, как там в Москве, помолчал, упираясь руками в колени.
— Тетя Нюра, — сказал он наконец мягче мягкого, — не подменишь ли в понедельник Клавдию на ферме-то? Ей в район надо на актив… Автобус за тобой приедет, молочка возьмешь домой, а?
— Гости у меня! He-а!.. Так и летом пришел, — со злорадной, кривой, ей свойственной усмешкой сказала баба Нюша, когда председатель пожелал всего хорошего и удалился, как-то печально протопав по крыльцу и унося через двор грузную, скорбную, озабоченную свою спину. — Посидел, покашлял, как перед собранием: «Теть Нюра! Приходи завтра лен дергать!» А я: «Не-а!» — и все дело. Женщину надо председателем, бабы здешние совсем иного качества! Земля у нас для мужчин неполезная.
В одно солнечное утро баба Нюша вытянула из шкафа большую икону, вытерла тряпочкой, заменила разлохматившуюся веревку капроновым чулком и заставила меня залезть на стол, повесили. Убрали вышитым полотенцем Матерь Божью Троеручицу. Баба Нюша постелила чистую скатерть, надела чистую кофту, принесла самодельное пиво.
— Как приедет, сразу командует икону снять, он при иконе спать затрудняется!..
Зять, тот самый.
— А, военный!..
Баба Нюша уже много лет кружевами не занималась — надоело. Только ради меня она спустила с чердака валик, разыскала в комоде коклюшки и заплела узенькую полосочку — под разговор. И вот уже завязала последний узелок, отколола последнюю булавку, сняла с валика конец простенькой прошвы, которую, считалось, мы плели в четыре руки, чтобы мне поучиться, намотала на руку и отдала.
— Зря торописся ехать-то… Я поговорить люблю, а слушать некому. И поплела бы тебе и порассказала. А про деревню неинтересно, я и про город могу. Я в городе бывала, два раза только, а была…
— Анна Дмитриевна, — спросила я перед прощаньем, — неужели и в самом деле разорила крышу?
— А — разорила! Хи-хи-хи! Подумаешь, крыша! Учительница свадьбу разорила, а я крышу не разорю для их унижения! Хи-хи-хи! А ты что же — старухе не веришь? — Она, смеясь, замахнулась на меня краем передника. — Приезжай еще, я тебе про то хоть сто раз расскажу, блокнотик купи новый! Хи-хи!
Речь шла об истории с крышей сарая, столбом и монтером на столбе. Баба Нюша рассказывала ее как-то в сумерки, и очаровательны были подробности.
Ближайшей же осенью я снова приехала к ней и привезла ради этого рассказа мою подругу Люсю, с трудом оторвав ее на несколько дней от семьи. Однако баба Нюша меня подвела. Увидев в своем доме Люсю, она онемела. Люся моя — величавая красавица с русой косой. Если Люся стояла, баба Нюша привставала тоже, если Люся усаживалась, баба Нюша замирала рядом на табуретке. В доме поселилось торжественное молчание, как в музее. Люся чутко отнеслась к ценительнице. Она подолгу расчесывала косу перед зеркальцем на комоде, поворачивалась то в профиль, то в фас к бабе Нюше, томно, как полагается красавице, глядела вдаль на озеро через окошко. Баба Нюша смотрела то на нее, то на Матерь Божью Троеручицу, и Люся ей нравилась даже в таком сравнении.
— Дети есть? — взволнованным, осевшим от робости голосом спрашивала она.
— Трое, — отвечала томная Люся.
Мы объедались пирогами, что томности прибавляло.
— А муж хороший?
Люся, знавшая о мужененавистничестве бабы Нюши, уклончиво пожимала плечом.
— Не терпи! — страстно шептала баба Нюша.
Я пыталась сама начать рассказ о монтере, столбе и крыше, рассчитывая, что бабу Нюшу раздражат мои невыразительные детали и тогда она станет рассказывать для Люси. Но баба Нюша благоговела, Люся и ее, бабы-Нюшины, байки не могли сосуществовать, это было бы в плохом вкусе. С тем мы и уехали. Я навестила всех моих старух — бабу Машу, бабу Пашу, только бабы Саши, позировавшей художникам, уже не было, и мы уехали.
И тогда я записала рассказ по памяти прошлого приезда и бледную мою запись предлагаю.
Вот и вся преамбула, новелла — впереди.
Листья с берез и осин опали уже давно, ночные морозцы их почернили, наступила пора ложиться снегу, пора было замерзать озеру, пора было печки топить каждое утро, повязывать на голову третий платок, обкалывать топором затянувшуюся за ночь прорубь, но что ни день по-летнему бестрепетно выходило солнце, золотило воздух, заглядывало глубоко в озеро, слизывало иней с голубой утренней травы, быстро обогревало хрупкий утренний лед на мокрой прибрежной дороге. На выпасе позади монастыря и льняного поля за день вырастали крепенькие шампиньоны, а на теплом боку монастырской горы вызревала сладкая осенняя земляника.
Накануне того дня, как на ближайшем к ее дому столбе случилось знаменитое замыкание, баба Нюша договорилась наконец окончательно с завхозом нового школьного интерната о поросеночке от его известной в районе свиноматки Матыльдии и в самый день замыкания с утра возилась с сараем — заткнула мхом щели, на крышу наметала соломы, поверх соломы положила большую старую клеенку, прибила кой-где досками и, хоть большой красоты не получилось, настолько устала, что даже на площадь ей не захотелось идти. Однако собралась. В воскресенье на площади всегда бывало интересно. Баба Нюша отряхнулась от соломенной пыли, взяла сумку, обдумала, что купит в магазине, пошла. Но еще от моста увидела, что поздно, что людей на площади никого не было, один Тимка-монтер сидел на оставшемся от лавочки столбике возле аптечного крыльца и озирался в надежде на компанию. Баба Нюша постояла напротив шлюза — не возвратиться ли. Через латаный жестью створ тонко сочилась вода большого озера и бежала по оврагу маленьким ручьем, огибая желтые валуны, омывая когда-то сброшенную с моста могучую автомобильную покрышку, а под мостом бесследно исчезала, уходила в песок. По другую сторону моста в овраге было сухо, ходили куры.