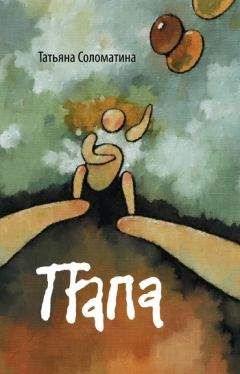Наоми Френкель - Дикий цветок
Одинокий бедуин приблизился к холму по тропе, и осел, стоящий в тени, у подножья холма, встречает его долгим ревом. Бедуин хлопает его по шее, как хлопают по плечу друга, садится у его ног, в тени огромной раскидистой кроны дерева пуэнсианы, занесенного с Мадагаскара и привившегося здесь, в этой степи. Кого он ожидает и чего дожидается? Заката солнца, сумерек? Бедуин ни делает даже легкого движения, сидит как темная тень человека, свернувшись в своем халате, и только глаза выглядывают из складок ткани. И стебли конопли колышутся на вершине холма, даже в безветрие, и небо пылает, и солнце жжет, и земля вскипает, и гнус и мошка облачками пляшут в раскаленном воздухе. Слишком большое беспокойство в такой час в пустой степи.
Время проходит, а я все не сдвигаюсь с места, сижу в напряжении в жилище Элимелеха. Бедуин все еще сидит в тени дерева. Может, он так сидит уже много дней? Может, он один из жителей погребенного в холме города, и поставлен стражником на одной из троп, ведущих в тайное логово между кустами конопли? Может он из легенды, одной из тех, которыми полна степь?
Я тревожился за Элимелеха и все сидел у входа в шалаш. Я ощущал его присутствие, не видя его. День близился к закату, подул ветер перед наступлением сумерек, белые туманы поднялись над болотом, воды которого испарились до того, что почти обнажилось дно. Папоротники, растущие в темной болотной трясине, и тамариски на берегах болота – поворачивают свои верхи к холму. Туда же ветер гонит поднявшийся туман, который вносит дыхание жизни в дремавшие заросли. Вдали, на горизонте, возникли первые тени ночи. Табун коней скачет по степи, оглашая ее галопом, становится легче дышать. Шейх Халед несется верхом вдоль болота, и за ним бежит белая лошадка, предназначенная Элимелеху. Розинка, белая лошадь кибуца, уже стара и не может соревноваться в скачке с конями шейха и друга его Элимелеха. Халед добирается до конопляного холма, и осел Несифы, раздувая ноздри, встречает его ревом. Эхо этого рева возвращается от ребра скалы и докатывается до шейха и его коней. Бедуин под пуэнсианой открывает глаза и смотрит на шейха, властителя степи. Вес широкое пространство степи пробуждается от дремоты, и всевозможные звуки и шумы – заполняют его.
Это – час шейха Халеда, Элимелеха и поезда.
Поезд идет по Хиджазской железной дороге, построенной в начале века и ведущей из Дамаска через Рабат-Амон в Медину в Саудовской Аравии. Турки в добрых отношениях со Святой землей и провели железную дорогу и через Хайфу, и она ровно, как по линейке, пересекает степь со всеми ее петляющими тропами. Жители степи приходят к полотну в любом месте, поднимают руку, и поезд останавливается, щедро отвечая на требование каждого жителя степи. Останавливается и снова движется по своему графику. Поезд этот один из самых старых в железнодорожном ведомстве.
Вот и он, приближается, я даже машу ему рукой. Еще немного, и появится Элимелех. Поезд скрежещет тормозами, скрипят, сталкиваясь, вагоны, хамсин подхватывает черный густой дым из трубы паровоза, который опадает копотью на землю. На подъеме старые колеса замедляют ход, высекая мелкие бледные искры из рельс. Поезд, в общем-то, слабый и дряхлый, но он не один в своем пути по степи. С ним за компанию верблюды, ослы, овцы. Верблюд, опустившись на колени, смотрит на поезд равнодушными глазами. Овцы толпятся, голова к голове, на полотне железной дороги, и кто их сгонит оттуда? Пастух даже и не думает это сделать, ибо занят беседой с другими пастухами. Поезд останавливается у конопляного холма, пассажиры сходят, присоединяются к бедуину с ослом под широко раскинувшейся кроной пуэнсианы, немного отдохнуть. Часть из них рассеивается по холму. Все отдают почет шейху, кланяясь ему в ноги. Суматоха царит возле холма. Вода, финики, маслины переходят из рук в руки – идет бойкая и громкая торговля. Машинист и его помощники обычно тоже толкаются на этом импровизированном рынке. Билет на поезд покупают иногда за деньги, иногда за товар, а иногда ловко уклоняются от оплаты, и все добираются до своих мест. Хиджазский поезд снисходителен и терпелив к каждому, но на этот раз у конопляного холма он проявляет знаки нетерпения. Паровоз дает гудок и застилает густым черным дымом всю людскую суматоху. Старые колеса натужно сдвигаются с места рядом с табуном коней, несущихся галопом. Черный конь летит по тропе, как орел в небе, и ветер развевает черную бурку Халеда. Головы коня и всадника соприкасаются, черная стрела пронзает долину, темная молния воспламеняет воздух. Летит шейх Халед на своем коне, и подковы разбрызгивают искры, ударяясь в землю. Поезд выбрасывает большие клубы дыма, и колеса его высекают искры из рельс. И вместе с конем Халеда поезд вырывается в дали. Но шейх обгоняет его и словно пристегивает железного хиджазского старика к молодому коню. И вот уже вся степь пристегнута и втягивается в скачку. Долина, зажатая горами, вырывается на простор вместе с шейхом. Все тропы несутся за ними, все глаза горят вместе с глазами Халеда, все сыны степи скачут на черном коне вглубь заката, красного, как кровь. Армия дерзновенных смельчаков рвется в просторы, и все они – компаньоны великого шейха. Степь, истерзанная суховеем, умирающая от жажды, распрямляется с ослаблением пекла, и сыны ее захватывают мир безумной скачкой коней и оружием шейха. И во всем этом вихре подает слабое ржание белая одинокая лошадка, без всадника, и она скачет сама по себе, закручивая воздух хвостом, как будто чьи-то невидимые руки заставляют ее догнать черного коня Халеда, Вдруг она застывает на месте, поворачивается, и скачет обратно по тропе к конопляному холму.
Под пуэнсианой стоит Элимелех, словно окаменев на посту. Может, упал с лошади, не сумев на нее взобраться? В хамсин все возможно. Белая лошадка подходит к Элимелеху и облизывает его, как свежескошенное душистое сено. Но внимание Элимелеха обращено не на нее, далек он от радостной скачки друга своего Халеда. Элимелех отстраняет танцующую вокруг него белую лошадку. Глаза его прикованы к дальней тропинке, беззвучно исчезающей в распадке горы, склоны которого усеяны точками овец и коз, и среди них Несифа со своим осликом. Выглядит она совсем крохотной, шагающей рядом с осликом, на спине которого груда конопли, и все более удаляющейся по горной тропе, словно прокрадывающейся между стенами теснины. Элимелех не отрывает от нее взгляда. Иногда она останавливается и оборачивается в сторону конопляного холма, уже поглощенного вечерними тенями, опускает голову, окутанную чадрой.
Элимелех опирается на посох, словно нуждаясь в его поддержке. Глаза его провожают Несифу, пока она не исчезает за поворотом тропы. Ветер развевает его волосы, и он приглаживает чуб нервным жестом. Несифа исчезает за поворотом тропы, а Элимелех вдруг срывается с места и бежит в сторону кибуца, как будто за ним гонятся черти, поднимается по тропе к эвкалипту. Видно, как этот подъем на вершину холма, в кибуц, затрудняет его дыхание. Грудь его вздымается, лицо красное, то ли счастливое, то ли несчастное. На щеке свежая царапина. Что случилось, Элимелех? Поведение его необычно, как будто он разделился на двух Элимелехов, правого и левого. На стороне царапины губы его искривлены. Рука раскачивает посох в воздухе, как дирижер, машущий палочкой. Ремешок на одной сандалии порван, и она прыгает вокруг ноги. Правой стороной своей он выражает радость. Левая половина лица лишено выражения, рука вяло обвисла, и нога в сандалии движется медленно, прихрамывая. Все пуговицы на рубахе перепутаны. Воротник наполовину поднят, наполовину запал, и из него выглядывают эти две половинки лица. Таким он поднимается на эвкалипт, по лесенке в свое жилище, и я встречаю его у входа изумленным взглядом. Элимелех опережает меня:
«Будем пить чай»
Он возится с примусом, пытаясь его зажечь и приготовить странный напиток, называемый им чаем, и один его глаз не отрывается от дела, а другой – не отрывается от далей. Я искоса поглядываю на его дневник, страницы которого ворошит ветер. Примус бойко шумит, и Элимелех начинает колдовать над приготовлением чая. Ложечка со звоном выпадает из его пальцев. Он вздрагивает на миг от этого тонкого звона, руки его замирают, глаза затуманиваются. Задымленный чайник на примусе черен, как конопляный холм. Голова Элимелеха в белых парах от кипящей воды, а я не отрываю глаз от его дневника, в котором он написал, что идет искать благо в хамсине, в котором нет блага. Но вот он вернулся и все насвистывает песенки своего детства, мелодии молитв. Может, нашел благо, которое искал? «Господи, Боже мой!», – думаю я про себя.
Сидим мы у входа в его жилище, в кроне эвкалипта, и хамсин обжигает нам лица. Чашки еще более жгут наши потные руки, и мы пьем чай, который горше, чем всегда. С каждым глотком я чувствую, как лицо мое все более кривится, но продолжаю пить кисловатое пойло. Элимелех смотрит на меня со странным вниманием и говорит: