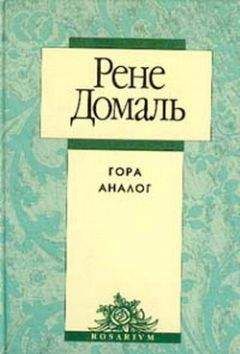Александр Иличевский - Нефть
При ретировке некоторые английские офицеры столкнулись с проблемой: походные их любовницы страстно верещали о верности, не менее страстно пугая достаться на поруганье красным. В результате их погрузили в вагон и, поместив его в самый конец состава, по пути отцепили, — чтоб стало кобыле немного легче.
Глава 12
БРАТ
Помещение. Спустя рождение свое, со счастливым любопытством барахтаясь каждое утро в волнах радости, на огромных солнечных колесах катящей навстречу новому дню, я скоро и незаметно добрался до того лета, к которому и относится начало моего рассказа. Добрался, как выяснилось, не столько продолжения ради, но для того только, чтобы вскоре открыть два закона, согласно которым, в результате частично уже разоблаченных в этих записках событиях, теперь полностью определяется мое существование: закона несчастной любви моей к брату — и закона сохранения страха.
Что касается первого, мне не избежать биографических пояснений. Ими вкратце я и займусь теперь; а что до второго, то закон этот имеет прямое отношение к первому моему наблюдению — и по мере продвижения объяснится сам по себе: естественно и непреложно.
На деле, несмотря на вполне невинную формулировку, все это оказалось достаточно мерзко, чтобы в результате насмерть подмять меня под обстоятельства безысхода.
Жестко говоря, вывернуть наизнанку, засунуть в рукав собственной шкуры, как шапку, как скальп.
Поразить тугой неподвижностью, в которой ни звука, ни мысли счастливой издать невозможно: всего только два десятка кубометров спертого воздуха, который уже раскален до температуры моей крови, мозга.
Конура, в которой нынче я помещаюсь, стала продолжением, наростом размытого неподвижностью тела, — и границы-стенки ее при каждой мой потуге скрипят, как раковина — от поползновений моллюска.
Единственное окошко — узкое, как прищур, — мой циклопический зрак, фонарь.
Но и то — отдушина зрению: чьи-то чулочные щиколотки, туфли, которые теперь день за днем подрастают бортами в ботики, сапожки, ботинки — лето кончилось, скоро слякоть.
Стекло в глухой фрамуге — бронированное: в первую неделю я сорвал глотку, разбил два стула.
И кажется мне, что в связи с полуподвальным, как бы кентаврическим моим существованием — небо за это время стало ниже, спустившись вслед за помещением моей н е п о д в и ж н о с т и: теперь седьмые небеса начинаются сразу чуть повыше затылка, — а те, кто снуют по ним мимо, суть ангелы, и обувь их — их воздушные лодки.
В последнее время все чаще стали появляться на куске моего асфальта лужи; иногда, выбивая брызги, в них ступают прохожие, — и я радостно догадываюсь: осень.
Недавно под мою амбразуру залетел футбольный мяч: что я испытал при этом, должно было быть когда-то моим восторгом — чувства мои обтесались острым страхом, разъелись его кислотой, в сам страх превратившись, — и органы их стали органами страха — его воспринимающими, его источающими.
Слух мой теперь — звук моего страха.
Зрение мое в темноте — цвет моего страха.
Когда я касаюсь в потемках ощупи предметов, я касаюсь кожи моего испуга.
Все эмоции мои, включая случайную радость от воспоминания, — суть медленные волны на зыбкой, как костный казеин, стылой поверхности ужаса: тело мое — размозженная, разжеванная мякоть этого косного заливного.
Я вряд ли способен на плач. И вряд ли смогу когда-нибудь почувствовать голод. Узкая, в пятнадцать сантиметров, щель вот уже семь месяцев моя единственная, дозируемая как невозможные, сухие слезы, порция света.
В моем закутке нет лампы, и с наступлением темноты я чувствую, как тугой влажный слизняк наползает на сетчатку.
Сначала он полупрозрачный, с синеватыми прожилками — они струятся в зыбкой мякоти; затем слизняк, скользя, утолщается, его линза становится плотнее и глуше, прожилки обесцвечиваются, исчезают, густые сумерки выпадают, как стена черного снегопада, — и кажется, что единственное, что я вижу, — это его голое, мерзкое прикосновение, скольжение: так зрение мое превращается в осязанье.
И тогда я вижу перед собою Петю.
Я не заметил, как открылась, шаркнув замком, дверь, как он вошел, на меня не глядя.
Теперь он сердито смотрит в меня.
Сосредоточенное недовольство — его вечная гримаса.
Он приходит ко мне еженощно.
Хотя он давно уже ничего не спрашивает — я знаю: это похлеще допроса.
Поначалу, измученный его явлениями, я начинал вертеть хвостом — выдумывал ответы на непроизнесенные вопросы о камне, нервничал, старался что-то нафантазировать — без толку, никакой реакции. Тогда я опускался до униженья — вспоминал наше детство, совместные забавы — пытался его развлечь: чтобы хоть чуточку смягчить, добыть из него хоть какой-нибудь сентимент — но тщетно.
Время от времени он только хмуро покачивал головой.
Это не то, что ему нужно. Это не то, что он мог бы съесть.
С некоторых пор я просто молчу, но не замечать его — свыше моих сил. Он сидит передо мной, как в зеркале, и старается т а м что-то разглядеть.
Разглядеть то, что я знаю о камне.
Мне не приходит в голову отмахнуться, плюнуть, лечь, заснуть.
Это странно, потому что у всего есть предел, в том числе и у страха. Ведь даже смертники поздно или рано оделяются безразличием — основой их ложного мужества.
Но в моем случае этого не происходит. У меня с весны не ослабевает острый, высасывающий страх перед его присутствием. Страх досуха сосет источник меня самого где-то у солнечного сплетения.
Страх этот — моя вина.
Вина моя в том, что я не знаю, где камень.
Я выучил наизусть его гримасу, все ее черточки: мне известен каждый бугорок лицевых мускулов.
Мне даже кажется, что я узнaю ее на ощупь.
Я знаю, сколько ресниц, сколько желаний он растерял сегодня.
С точностью до последней крапинки я знаю узор его зрачков, мне известно, что он недавно ел, и чистил ли после зубы: нюх мой обострен, как у зверя, — я улавливаю оттенки его дыхания.
Слыша запах той, с кем он был сегодня, я мог бы вылепить из своего воображения ее тело. Ее повадки. Ее масть.
Время от времени мне кажется, нужно пересилить себя, подойти к нему — обнять, открыться, что я его люблю, что суть моего страха — как раз в нежелании себе в этом признаться.
Но иногда мне чудится, что страх этот — внешний, не имеющий внутренней причины: страх, который, как могильный морок, привалил меня, обездвижив тело, мысли.
Безусловно, у Пети есть сообщники, и я готов биться о заклад, что знаю: кто.
Сволочи эти Фонаревыми зовутся.
Что они сделали со мною — весною ранней (я и вдохнуть-то март не успел толком) насильно заперли — заманив, накачав какой-то гадостью желудок, мозг, сознание, — как пьяного под руки спустили лестницей в эту подвальную конуру, в бывшую дворницкую на Покровке, — и кормят здесь макаронами с сыром, которыми давлюсь я, только чтоб не обмереть с голодухи — раз в три дня, — чистой воды уголовщина: но им плевать.
Их уверенная наглость довольно подозрительна: либо они сошли скопом с ума и превратились в конченых психопатов, либо они действуют под чьим-то очень серьезным прикрытием.
Вениамин (после перевода Оленьки в столичный универ и после событий 89–90 гг.) понял, что ловить ему в Баку больше нечего и что надо сваливать, — но вместо того, чтобы как все приличные люди отправиться в Израиль, или в Америку (что и сделали наши родители и почти все родственники; мы же с Петей остались, дабы он успел закончить аспирантуру, а я — покончить с дипломом, — для этого мне нужно было отправиться на военные сборы, которые, кстати, я из-за всей этой заварухи пропустил), — ловко, как эквилибрист, цепляясь за ниточки связей, тянущиеся с пальцев великого марионетчика Али-хана, перевелся по службе в Москву, получил квартиру и вполне освоился в своей непыльной деятельности сотрудника федеральной контрразведки. Тем более что контрразведывать об ту пору в стране было нечего. По совместительству устроился начальником отдела безопасности в каком-то банке и, получая дармовой паек в виде зарплаты, стал вновь исполнен чувства солидности и благополучья. Видимо, тогда-то он и решил, что теперь может спокойно заняться камнем.
Брат. Вообще, я чувствую, мне не избежать дополнительных разъяснений. К счастью, все обстоит более или менее просто и распространяться на этот счет не придется.
Брат мой, Петр, старше меня на год. Мы довольно похожи, почти двойняшки, но если наблюдать нас вместе хотя бы минуту — вопрос о родстве отпадает намертво. Главный различающий нас признак очень простой — в нем я виноват: у меня выражение лица всегда будто я не здесь или только что откуда-то.
Возможно даже, оно выглядит из-за этого несколько глуповато.
Возможно также, что это, часто во мне случающееся состояние отразилось в конце концов и на фенотипе.