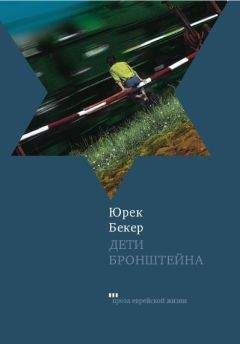Юрек Бекер - Яков-лжец
— Обязательно.
— Я уже сейчас очень рада!
Лина уже радуется, каждый раз, когда она радуется, она поднимает плечи до самых ушей. Яков наконец приступает к еде, сначала сухой хлеб, пока она после некоторого раздумья не морщит лоб — есть, оказывается, препятствия.
— А что будет со школой? Ты же сказал, мне нужно будет в школу. Если нужно в школу, когда же разносить мороженое?
— Школа важнее, — решает Яков. — Пока ты будешь в школе, я возьму клиентов на себя, а когда ты вернешься, то сможешь мне помогать, если тебе не расхочется.
— Но мне лучше хочется сразу в кафе.
— Что ты имеешь против школы? Какой-нибудь дурак рассказал тебе о школе плохое?
Она трясет головой.
— Вот видишь, школа — это самое, самое замечательное. Туда приходят одни глупые дети, а выходят оттуда одни умные. И если ты думаешь, что глупой ты мне нравишься больше…
Нет, ничего плохого она о школе не слышала.
— Рафаэль и Зигфрид тоже должны будут ходить в школу?
— Конечно.
Такой ответ приносит успокоение. В это время стучат в дверь, Лина вскакивает и хочет открыть, Яков задерживает ее и прикладывает палец к губам. Стук всегда подозрителен, но не каждое подозрение подтверждается. Это может быть, например, Киршбаум, который хотел бы поговорить о том, что Лина уже выздоравливает, или сосед Горовиц собирается одолжить под честное слово до новых талонов ложку солодового кофе, это может быть просто обыкновенный стук, сейчас узнаем, но Лину не должны видеть, Лина никого не касается. Он обнимает ее за плечи, подводит к окну и показывает пальцем на угол за кроватью.
— Сиди здесь и не шевелись, пока я не позову, — шепчет он. — Поняла?
Поняла. Лина садится на корточки и не шевелится, Яков открывает дверь. Кто стоит на пороге? Ковальский собственной персоной со своим раздутым лицом, стоит и пытается улыбнуться.
— Опять я явился на твою голову.
Яков с удовольствием не впустил бы его в комнату, говори скорее, что случилось, и до свидания, но у Ковальского такой вид, будто ему некуда девать время. Он проходит мимо Якова, который стоит в дверях, садится к столу и говорит:
— Ты собираешься закрыть дверь?
Яков закрывает дверь с несколько большим шумом, чем требуется. Лина сидит тихо, как ей велено.
Яков, ничего не поделаешь, придвигает ему стул и старается сделать вид, что очень занят.
— Ты как раз ужинаешь, — отмечает Ковальский. — Я не помешаю?
— Говори же, наконец, какое у тебя дело!
— Так встречают гостя? — дружелюбно спрашивает Ковальский.
— Нет, я сейчас спущусь в погреб за вином!
— Почему ты сразу раздражаешься? В этом всегда было твое горе, Яков. Ты всегда встречал своих гостей не так приветливо, как следовало, они мне часто об этом говорили, когда я их стриг. Потому к тебе постепенно перестали ходить.
— Благодарю за совет. Так ты пришел, чтобы сообщить мне это?
За кроватью тихонько хихикнули.
— Ты будешь смеяться, Яков, я пришел без всякого дела. Дома меня стены давят, нельзя каждый день сидеть в той же комнате, вот я и подумал, зайду поболтать к Якову, ему, наверно, так же тоскливо, я подумал, он обрадуется. Раньше ведь мы тоже встречались после работы, и все считали это совершенно нормальным. Разве не пора постепенно привыкать к нормальной жизни?
Прежде чем Яков успел ответить, что раньше — это раньше, а сегодня — это сегодня и он хочет, чтобы его оставили в покое, он хочет лечь спать, потому что работа на станции ему не по силам, Ковальский опускает руку в карман и достает обе сигареты, кладет их на стол, одну перед собой, другую перед Яковом, и таким образом затыкает ему рот на первое время.
— Это ты хорошо придумал, — говорит Яков. Ковальский думает, наверно, слова Якова относятся к его приходу, Яков смотрит на сигарету, под конец он имеет в виду и то и другое.
— Кроме того, ты мне сегодня довольно мало рассказал, — произносит Ковальский, выдержав паузу. — Насчет потерь, это было приятно слышать, но пойми, другие вещи меня интересуют не меньше. А о них ты не сказал сегодня ни слова.
— Караул, Ковальский, почему ты меня мучаешь? Разве нам и без того недостаточно тяжело, каждый день ты начинаешь одно и то же. Я не могу уже больше это слушать! Если я что-нибудь знаю, я ведь сразу говорю тебе, но дай мне покой хоть в моей собственной комнате!
Ковальский задумчиво качает головой, крутит в пальцах сигарету, выпячивает еще опухшую нижнюю губу, он пришел со своими подозрениями, в которых он опасно близок к истине. Он говорит:
— Знаешь, Яков, я заметил, что ты всегда раздражаешься, когда я спрашиваю тебя о новостях. Сам ты никогда ничего не рассказываешь, значит, мне ничего не остается, как тебя спрашивать, а как только я спрашиваю, ты сердишься. Это у меня в голове не укладывается, не понимаю, где здесь логика. Представь себе обратный случай, у меня есть радио, а у тебя нет, разве ты не стал бы меня спрашивать?
— Ты с ума сошел! При ребенке!
Яков вскакивает и поворачивается к окну, Лина достаточно долго сидела скрючившись в углу и слушала, теперь, как было уговорено, она выходит, сияя, из своего неудобного укрытия.
— Боже милосердный, — испуганно бормочет Ковальский и всплескивает руками, но никто не обращает на него внимания, безмолвный разговор ведется между Линой и Яковом. Они обмениваются взглядами, Лина подмигивает ему, ничего себе, проболтался, и Яков расстается с робкой надеждой, что вдруг она не расслышала, дети часто витают в небесах, или хотя бы не поняла, — нет, у этой плутовки ушки на макушке, ничего не упустит, все схватывает на лету, она ему подмигивает, значит, прощай надежда. Придется как следует попотеть, пока придумаешь, как выпутаться из этой неприятности, каждый день новые напасти, опять не до того, чтобы прислушиваться по ночам, не гремят ли пушки. Но еще не ночь, Лина еще стоит напротив и наслаждается торжеством, которое по неосторожности приготовил для нее этот болван Ковальский, нельзя бесконечно изнемогать в углу и не подавать признаков жизни.
— Иди наверх, Лина, я потом поднимусь к тебе, — говорит Яков каким-то тусклым голосом.
Лина подходит к нему, Яков думает, что она хочет его поцеловать, поцелуй — неписаное правило даже при самом поспешном прощании. Но он может думать, что хочет, сегодня у Лины на уме совсем не поцелуй, она притягивает к себе его голову, потому что на голове есть уши, и шепчет в одно ухо:
— От тебя они все знают! Ты меня обманывал!
Лина ушла, Яков и Ковальский снова сидят за столом, Ковальский ждет, что на него посыплются упреки, и не чувствует за собой никакой вины. Потому что ничего бы не случилось, если б Яков не прятал от него своего ребенка, от него, своего лучшего друга. А если уж он ее прячет — потому что не может знать, кто стучится в дверь, — то должен был ее выпустить, когда увидел, что пришел я. Но нет, он оставляет ее в углу, наверно, он о ней забыл, я спрашиваю тебя, как можно забыть о ребенке? В конце концов, я не ясновидящий, а теперь он злится и начнет меня обвинять.
— Замечательно! Мало того что об этом болтает все гетто, теперь по твоей милости и она знает, — говорит Яков.
— Извини меня, пожалуйста, но я при всем желании не мог ее видеть. С моим теперешним глазом…
Ковальский показывает на глаза, пусть Яков выберет, какой из двух, они оба, как щелочки, а вокруг их эффектно оттеняют здоровенные синяки. Да, Ковальский показывает на свои глаза, деликатное напоминание об утренних событиях, о сегодняшнем спасении его, Якова, жизни, яснее высказаться и не требуется, и если уж начинать с упреков, то неизвестно еще, кто кого имеет право упрекать. Настроение за столом сразу меняется, становится теплее на несколько градусов, взгляд Якова выражает горячее сочувствие, он придвигает немного свой стул и совсем другими глазами рассматривает, что он натворил.
— Неважно выглядит.
Ковальский небрежно машет рукой, ерунда, пройдет, раз Яков настроен миролюбиво, он тоже не хочет быть мелочным, он сегодня добрый. Сигареты еще лежат на столе, Ковальский молодец, подумал даже о спичках. Еще один сюрприз, он вытаскивает их из кармана, зажигает одну об исчирканный коробок, теперь, брат, покурим. Откинься же на спинку стула и прикрой глаза, не будем портить себе удовольствие разговорами, помечтаем эти несколько затяжек о старых временах, которые скоро вернутся к нам снова. Давай вспомним о Хаиме Балабуле в очках с толстыми стеклами в никелевой оправе и его лавочке, где мы всегда покупали сигареты, вернее, табак для сигарет. Его лавка была ближе к тебе, чем моя, а моя ближе к нему, чем к тебе, она стояла как раз между тобой и мной, у нас никогда не было с ним по-настоящему дружеских отношений, но это по его вине. Потому что он не интересовался ни картофельными оладьями или мороженым, ни стрижкой и бритьем. Многие говорили, что он отпустил свои рыжие волосы из набожности, но я знаю лучше — он сделал это из скупости и ни из чего другого. Ну ладно, все равно о мертвых плохо не говорят, у Балабулы всегда был большой выбор, сигары, трубки, портсигары с цветочками на крышке, сигареты с золотым мундштуком для богатых, он все хотел уговорить нас покупать более дорогой сорт, но мы остались при своем «Эксцельсиоре». А подставка с газовой зажигалкой и ножницами для сигар на прилавке из желтой меди, которую он всегда чистил, — как зайдешь к нему в лавку, так он ее чистит, об этой дурацкой подставке вспоминаешь каждый раз, когда думаешь о том, как было раньше, хотя табак мы покупали не чаще чем раз в неделю, а подставкой никогда не пользовались.