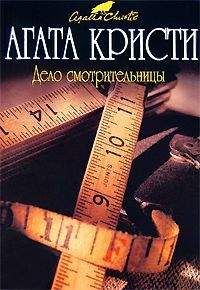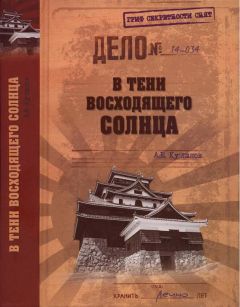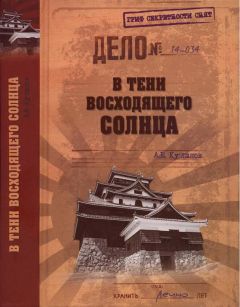Александр Мелихов - Мудрецы и поэты
Но нам так хочется притвориться беззаботными гусарами (проще – жуликами), попритворяться, что нам море по колено, не идем по жизни, а порхаем, – так хочется, что благодарим за каждую возможность. Мы заплатим вдвое, притворитесь только, что считаете нас не то богатыми бездельниками, не то богемщиками, не то еще кем-то – конкретности мы не хотим, как не хочет ее Беленко, потому что у нас ее нет, – это была бы слишком грубая лесть, вроде как майора назвать «товарищ генерал-майор».
Пусть официант обратится к нам как к прожигателям жизни – мы немедленно прожжем месячную зарплату; пусть на витрине или в рекламе лакированная… Да вот, пожалуйста, на столике с полуампутированными ножками брошена рекламная туристская брошюра, которую сам же Дима и притащил сюда, – все блестит, все красочно, очищенно, как никогда в жизни не бывает, но ведь нам, пентюхам, того и надо. «Комфортабельный экспресс быстро домчит вас…» – обыкновенный автобус, но, пожалуйста, говорите, что мы ездим в экспрессе, – видите, мы уже сомлели от счастья. Вот разноцветная женщина с красивым порочным лицом в окне машины – высунула локоть, развевается шарфик, который не пошел и не купил, а за машиной – цветные журнальные просторы – и мы, пентюхи, уже растаяли, сейчас потечем, кто-то притворился, будто думает, что мы с такими бабами разъезжаем по таким просторам. И брошюрку-то эту Дима сам привез Юне из туристской поездки, желая придать себе больше весу, как бы намекнуть на свою связь с той бабой и машиной.
Мы, оторвавшиеся от своей корневой системы, мы уже не соображаем, что наши живые просторы и бабы во сто раз лучше и роднее нам. Те, рекламные – они же из пластмассы сделанные. Простой даже гордости в нас нет – пусть притворится кто-нибудь, что мы походим на фотообразец, который сами же стребовали с него, – мы на карачках за ним поползем, а настоящее свое запихаем куда-нибудь под кровать, пока не заметили.
Вот беззаботная парочка в теплоходном ресторане обсуждает меню, скатерть, посуда – все сверкает, почтительно склонился официант, – и ты, пентюх, будь ты сто раз уважаемый врач, известный у себя в городе, облеченный доверием человек, – сердце у тебя сожмется от той свободы, с которой у него распахнут пиджак и с которой он обращается к официанту. Вот что значит оторваться от своего. Для нас последний довод: где-нибудь в Париже так делается. И сколько у нас парижей – сплошные парижи. Главный довод для нас – «пользуется популярностью», – у кого, за что – неважно, – все равно вырвем из рук.
Взять его пресловутую застенчивость, – так ведь всякий хороший человек, общаясь с людьми, испытывает некоторое затруднение, боится обидеть их, что ли. Но сам он был бы вполне способен скрывать свою скованность, если бы не считал, что она должна им понравиться, расположить к снисходительности, – наивное, мол, дитя природы, конечно, теряется перед этаким блеском, который мы излучаем. Стоит оторваться от своего кряжа, и обязательно будет так: будешь не судить о них , а угадывать, как они о тебе судят (последнее «они» предполагало, кажется, всех самодовольных).
А кстати, интересно: что они о нем говорят? Он подошел к двери и прислушался, – он как-то совсем выпустил из виду, что подслушивать ниже его достоинства. То, о чем он сейчас думал, так укрепило его в своих глазах, что ему не было страшно, – ему как будто казалось, что он невольно внушает некоторое почтение. Его обличения представлялись ему такими свежими и верными, что он почти рассчитывал потрясти ими Юну, поразить ее остротой своего взгляда. Он уже как бы мысленно подсказывал Юне оправдательную речь, можно что-нибудь скромное: знаешь, Дима очень хороший, очень умный парень, но очень самолюбив. Ну, или там: очень хороший, очень умный, но как выпьет – дурак дураком. Это тоже можно, в этом даже есть свой шик.
Но слишком много было бы для него чести – служить предметом их беседы. Говорили они о чем-то неизвестном и говорили совсем по-домашнему, еще и посуда какая-то позвякивала – Юна, наверно, готовилась к чаю.
– Я, кстати, тоже чуть не получил выговорешник, пятое-десятое, – с улыбочкой в голосе сказал Беленко и подытожил, уже откровенно смеясь: – Но это детали.
– И не в этом суть, – закончила Юна со смехом – ну абсолютно непринужденным! – как смеются над тем, что совершенно тебя не касается.
Диму как будто вытянули кнутом. Он отскочил от двери и быстро заходил, почти забегал по комнате. Девушка может подтрунивать над тобой, только если это носит характер заигрывания, вызова на ответную шутку. Но если она просто смеется над тобой, как над посторонним, да еще и с посторонним, – худшего позора нет и быть не может!
Весь вечер наконец открылся ему во всей позорной истине – во всей и более того. Какого идиота он разыграл! Сейчас он с радостью растворился бы в воздухе, вытек в форточку, как дым испепеленного рулета, но, к несчастью, это было невозможно. Но невозможно было и остаться, он не мог бы говорить с ней, да что там – просто смотреть в глаза.
Что же делать? И притом немедленно! Театрально покинуть квартиру, вот так вдруг, ни с того ни с сего, – полный идиотизм. Такое всегда было ему не по силам – смотреть в лицо и не прощаться. Но ведь не оставаться же из-за этого! Лучше всего, конечно, было бы уйти как бы по-хорошему – все, мол, пора, сидят-сидят, да и уходят. Но тогда придется говорить с ней, смотреть в глаза, держаться как ни в чем – он этого не мог. Да-да, серьезно, он не мог этого. И не мог тоже постигнуть, как это можно: разговаривать с человеком по душам, серьезно кивать, а потом смеяться над ним, будто ты его знать не знаешь.
Но ведь они в любую минуту могут войти – придется что-то говорить, смотреть в глаза… Дима несколько даже заметался – хоть в окно выпрыгивай! Кстати, с балкона не так уж высоко… Только нельзя, это уже полный идиотизм. Ну и что, больше-то он ведь их не увидит. А вот сейчас она войдет и… Ей-богу, выпрыгнул бы, только вот плащ остался в прихожей… Ах, черт! – плащ с пришитой вешалкой так и пролежал в уголке дивана, за беленками не до него было.
И все. Все остальное исчезло, как в больнице на че-пэ. Дима без лишней суеты сбросил с балкона на простенький газончик правильно свернутый плащ и, как матерый диверсант, бесшумно махнул через перила. По квадратным вертикальным прутьям, на которых держались перила, скользнул пониже, до бетона (обожгло руки), на миг задержался в висе – и вниз, на простенький газончик. Чересчур низко присел, лязгнулся подбородком о колено. Перебросил плащ через руку и быстро, не оглядываясь, пошел прочь, трогая языком зубы. Кажется, эмаль цела. В общем, операция прошла успешно. Он был совсем не пьяный, только нога встречала землю каждый раз чуточку неожиданно.
Сзади раздался громкий смех. Дима вздрогнул и яростно обернулся. Хохотали не над ним. Он зашагал спокойнее. В сущности, он был уже вне опасности. Он машинально полез за сигаретами и вместе с ними нечаянно вытащил аккуратно сложенную бумажку. Он поднял ее, развернул – это были два билета в театр. Чистенькие, сдвоенные, сросшиеся вместе. Милая парочка – баран да ярочка. Четвертый ряд, семнадцатое, восемнадцатое место. Дима бешено скомкал их в кулаке и шваркнул в урну, еще больше бесясь, что они такие легкие, – тут бы поувесистее чего-нибудь. И такой это болью в нем отозвалось, будто душу свою он скомкал и швырнул, – и урна подвернулась, как назло, а то другой раз не доищешься.
А с болью немедленно явилась привычная облегчающая мысль: расскажу ей. И, разумеется, немедленно вспомнил, что именно ей и не придется уже никогда ничего рассказывать. Уже все. А когда он это осознал, у него буквально подкосились ноги. Он едва не сел на тротуар и почему-то зажал себе рот ладонью, не заботясь, смотрят на него или нет. А в следующий миг он уже бежал обратно. Смешно! Глупо! Нелепо! Что он им скажет? Ведь они же думают, что он в комнате, а он придет с улицы… Или попробовать залезть на балкон? Нет, не залезешь. А может, они уже обнаружили, что его нет в комнате, – вот небось удивились. Но что-то надо придумать, что сказать, превратить в шутку… Какие шутки! Нельзя туда идти, полный идиотизм, – а ноги уже внесли его на второй этаж, а палец уже надавил на белую кнопку, а куранты уже взыграли что-то нежное и насмешливо-удивленное.
Только сейчас Дима по-настоящему понял, что нельзя, невозможно, немыслимо ему туда идти, такого сраму он просто-таки не переживет. А ведь сейчас уже откроется дверь, изумленные глаза: «Это ты?» – Дима кубарем покатился с лестницы.
Когда он, как кинодевушка вокруг березки, разворачивался на правой руке на промежуточной площадке, дверь ее приоткрылась, и они встретились глазами. «Дима!» – воскликнула она, а может быть, спросила.
Кажется, он сумел-таки ее потрясти.
Дима брызнул вниз, плащ трепался позади, как спущенный флаг. Дима был уверен, что сейчас споткнется и оставшиеся ступеньки пропашет носом. Но милосердная судьба избавила его от этого.