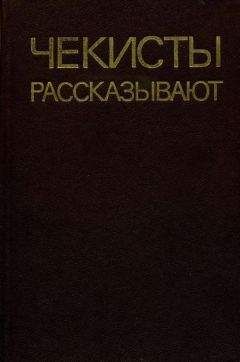Владимир Личутин - Фармазон
Его жизнь ныне вилась по одному размеренному кругу. Крень добровольно очертил его, настроился на ровное, бессмысленное движение внутри его и был рад тому непоколебимому покою, который создал для себя. Только покойный отец все тревожил Михаила, домогался его, не оставляя во снах, грозил и упреждал, проклинал и плакал вместе с ним иль изводил каким-нибудь хитроумным способом, как нынче во сне: появился, наворожил боль, надсмеялся – и исчез. И, потроша каждый раз сундучишко, Михаил Крень как бы ворошил прах отца, рассматривал его при свете сальника, отыскивая его странную смятенную душу, которая, конечно же, должна была сохраниться в потемени ларца, среди затлевших старинных вещей. Но разве посильно проникнуть в душу вознесенную, Бог знает куда удалившуюся, если невозможно постигнуть ее при жизни, обитающую возле и в своих болях обнаженную каждому.
Иногда Креню хотелось кинуть укладку в огонь, спалить отцовы приметы, отвязаться от его призрака. Он даже придвигал сундучок к плите, раскладывал вещи на полу одна возле другой, выбирая из них наиболее ненавистную, в которой отразился дух отца и его повадки, но что-то каждый раз останавливало его руку. Может, цвет мятущегося пламени пугал Креня, ибо когда оно загибалось в сторону от березовых поленьев, то за лисьими хвостами его, как бы оторванными от древесных струпьев, вдруг виделась вихревая безглазая темь, в которую утягивалось все. Оказывается, все отлетает туда, где ничего нет…
А может, ему не хотелось расставаться с прошлым, ибо отцовы приметы как бы удерживали жизнь Креня во всей длине: были, выходит, детство, юность, как у прочих, и вот дикая старость. Там, в далеком прошлом, как ныне вспоминалось седому бобылю, осталась скрытая любовь к отцу. Тогда Мишке все время хотелось сделать для отца благо, добро, чем-то особым выделиться и тем самым поглянуться отцу. Но Федор Крень как бы не замечал уловок сына, отодвигал от себя окриком и потычкой, а то и открытой неприязнью иль ненавистным взглядом, будто сын сотворил ту долгую вражду и нелюбовь, что жила между родителями. Мишку однажды засеяли в нелюбви, и само рожденье оказалось для него проклятьем.
«…Аще кто в путь пойдет, сон Богородицы при себе носит, тому человеку на всяком месте милосердие Божие, путь ему чист и корыстен, ни гадов, ни змей телеси его не уязвит».
Старик зачем-то понюхал молитву, написанную на пергаменте, и залоснившийся шейный шнурок понюхал, лизнул даже, но запаха отца не уловил: может, и сохранился он, но Крень его не помнил. Потом достал из сундучка Библию в деревянных покрышках, обтянутых телячьей кожей. Отец, бывало, часто хвалился, что за жизнь свою одолел Библию пять раз и постиг ее сокровенный смысл, для многих утаенный. Любопытные места он отчеркивал ногтем, и ныне, листая книгу, Крень часто находил глубокие, чуть ли не сквозные отметины в порыхлевшей зернистой бумаге, глубоко затлевшей по обрезу.
«…Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе… Если он и делает добро, то делает его в забывчивости и после обнаруживает зло свое».
Здесь две продольные ржавые отметины, словно бы оставленные в сердцах. Тогда, помнится, Мишка застал отца за Библией и, насмелившись, подошел со спины, и, разглядев его сутулые неширокие плечи, обтянутые овчинным лифом, и кудрявую светлую поросль на худой потрескавшейся шее, покрытой ржавым веснушчатым загаром, он почувствовал в себе внезапную жалость и любовь.
«Отец, люди не любят тебя, – вдруг сказал Мишка и сам испугался слов своих. – Говорят, гордыни много».
Отец обернулся неторопливо, лицо его было бледно и печально.
«А за что любить?.. Они рабы Господни, слуги его, а я – воин его, – откликнулся сразу, словно бы давно готовился к ответу. – Они исполняют заповеди Христовы, чтобы тешить себя, а я живу по заповедям, чтобы утешить их… Я пробовал себя, я смерть пробовал на зуб, а она не берет меня, зараза. Отшатнулась. Сначала надо себя полюбить, а если сам себе откроешься, то и всех возлюбишь. Не словом, но делом возлюби, слышь? Словом-то многие могут, язык не отвалится, пожалеть многие могут. – И вдруг оборвал себя, а чуть помолчав, распалился: – Не стой истуканом, чего встал? Поди давай прочь, а то шшолкону. На отца подослали, поди?» – уже с подозрением уставил мглистый недобрый взгляд.
Мишка сробел, но не ушел. Пересилив мертвый страх, снова спросил о том, что мучило давно:
«Батя, ты за что меня не любишь-то?»
«Кто сказал?.. Раз посеял, значит, люблю, значит, хотел тебя. Надоел ты мне, Господи, поди ты прочь-то, не засти свет… Нет-нет, постой. Люди-то про меня зря бают, слышь. Они зубы моют, а ты им не верь. Пока добер для них, так вроде и хорош, а исподтишка зубы точат. Ты не верь им, Миша. Мелют, поди, сволочи, что я на чужой крови возрос, на мирском хребте поднялся, жилы перекусываю, житья не даю. Жалятся люди? Сказывай, чего молчишь? А я сам до всего поднялся. Этим вот местом да этим, – отец ударил себя по лбу, по загривку. – Они же за мной как в затулье, собаки. А добра видел от них? Если беда, к кому бегут? То-то… Я им помереть не дам, малость поизгаляюсь, но помереть не дам, обнадежу, хлебушка подкину на зубок, к труду подвигну, жизнь продлю. А кто словом-то жалеет, он от смерти не спасет, не-ет… Ты слушай, Мишка. Мои слова дороже хлеба. А ну, сынок, подойди сюда». – Парень подвинулся, и отец с размаху щелконул его по лбу, так что лиловый желвак вспух.
«Зачем бьешь? Чего худого сделал?» – заканючил Мишка, затравленно озираясь, но глаза его оставались сухими.
«А чтоб себя любил пуще да хитрый был. Простодыра ты, вот и шшолконул. Рот-от раззявил, ворона пролетит… Ты, Мишка, к тем в избу ходи, кто меня ругает. Многое сможешь понять, если голова на плечах, а не пробка. А тех не слушай, кто сладко говорит: от них туман, одна дурь остается. Они сами с усами, их гривной не прижмешь. А того, кто молчит, – накорми не скупясь. Тот, значит, вынес все и, что случится, другоряд перетерпит. Ты молчаливого обласкай, но вровень не становись. Обнаглеют и на плечи сядут… Ну поди-поди, пока ремня не дал. Выпороть тебя, что ли? – Глянул с дурашливой искрой, и по грозной веселости в глазах видно было, что не шутит отец. – Я за тебя возьмусь, парень. Я из тебя глупости выбью. Пош-то не лю-бишь меня, пош-то не лю-бишь, – передразнил уже темно и ненавистно. – А ты, щенок, заслужи любовь мою. Зас-лу-жи…»
«Пять раз прочитал Библию, значит, что-то искал? Значит, мучился? – подумал неожиданно старик, вспомнив давние отцовы поучения. – И самоядскую сказку не зря начеркал в книге. Вон грязи-то навел, нагородил огороду». И действительно, строка напирала на строку, буквы плелись сикось-накось мужицкой, непривычной к перу рукой. Перо, видно, подтыкало и долго мучило человека.
«Скаска самоядина. Пырерка нашел в лесу могилу, срубленную, как ящик. Подле сани опрокинутые, и олени в упряжи. Оглянулся Пырерка – нет никого. Стал звать.
“Есть ли здесь кто-либо?”
Голос из могилы откликнулся:
“Здесь я, девка, похоронена”.
“Зачем же ты похоронена?”
“Да я мертвая”.
“Как ты узнала, иль кто тебе сказал, что ты мертвая?”
“Я всю жизнь была мертвой, у меня не было души, но я об этом не знала и жила, как все живые. А когда стала невестой и сидела с женихом и родными у костра накануне свадьбы, из костра выскочил уголь и упал на меня. Я и родные мои, и жених узнали, что я мертвая, что у меня нет души, а только видимость одна и все, что мое, только видимость одна. Меня и похоронили и со мной все, что мое было”.
Пырерка сказал:
“Хочешь, я сломаю могилу и ты будешь жить?”
“Нет… У меня нет души, мне нечем жить”.
“Я дам половину своей души, и ты будешь моей женой”.
Девка согласилась. Пырерка сломал могильный брус, освободил девку и увез с собой. Конец».
«…Пять раз одолел отец Библию, значит, чего-то искал? – снова подумал ночной старик, с трудом проглядывая запись и запоминая ее. Тупо сверлило в голове, отдавалось в надбровье, и боль по-прежнему утекала к запястью, скапливалась в жиле. – Глупость какая-то, ей-богу. Если девка в могиле, так сгнила. Косьё одно. А она речи ведет. Сказка – вралья, так и есть. Тоже, видать, придурялся батя, на старости лет вовсе оглупел».
В стену ударил ветер, пламя сальника качнулось, и темь в избушке колыхнулась и ожила. И каждый угол сиротского житья, каждая вещь словно бы пробудились, заговорили своим языком. Под порогом упорно точила мышь, выгрызала сучок, которым Крень вчера забил нору; из дымника сыпалось, и мелкая кирпичная крошка ударяла в чугунную вьюшку; в дальнем углу под полком кто-то сыто поуркивал; сажная бахрома в переднем углу тянулась к потолку от невидных сквозняков. Крень поежился от сырого движения воздухов, накинул на плечи потертую овчину. Какое-то время его будто выкинуло из памяти, и он не понимал, где сидит и зачем середка ночи копается в укладке: он тупо раскачивался на кровати, прижмурив глаза, и тягуче ныл. Потом его озаряли какие-то мысли, голова оживала, и бобыль снова наклонялся над своим обзаведеньем, выискивал взглядом в глубине сундучка вещь, достойную вниманья. Казалось бы, на конце седьмого десятка Крень выгорел весь, вытлел, осталось лишь откачнуться этой кожурине на заплесневелую кровать и навечно уснуть, но какая-то неисповедимая сила вновь пробуждала и приневоливала жить. Он и не болел-то никогда раньше, не знал хворей, в нем жила неутомимая лешева сила, и только сегодня родилось прихватывающее сердечное колотье, словно бы во сне отец насулил последнее суровое наказанье.