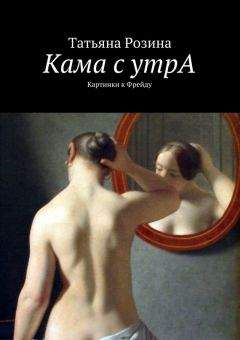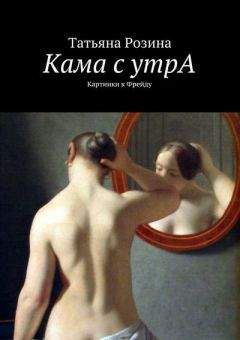Герта Мюллер - Сердце-зверь
И эта минута настала: я замкнулась, слушая стук своего сердца, а Курт был словно за тридевять земель. И никаких обидных слов я, вдруг остыв, не могла придумать. Когда от этого внутреннего холода стыли мои руки, они легко могли совершить что угодно. За окном проплыла шляпа.
— Сдается мне, ты не прочь сделаться сообщником, — сказала я, — но ты просто бахвал. Ты лижешь свою кровь, а они пьют свиную.
— Ну и что? — сказал Курт.
После моего имени стоял восклицательный знак. Я поискала волос в сложенном листке, затем в конверте. Волоса не было. Я вздрогнула от испуга и еще раз вздрогнула, — лишь тут я сообразила, что письмо-то от мамы.
После маминых болей в пояснице я прочитала:
«Бабушка не спит по ночам. Спит только днем. Путает день с ночью. Из-за нее дедушка не высыпается. Ночью она не дает ему глаз сомкнуть, а днем он спать не может. Она зажигает ночью свет и открывает окно. Дедушка встает, гасит свет, закрывает окно и опять ложится. И так всю ночь, до рассвета. Теперь окно разбито. Бабушка говорит, это ветер разбил, да кто ж поверит. Только выйдет из комнаты — и тут же возвращается. А дверь не закрывает. Если дедушка на все это смотрит сквозь пальцы и не встает закрыть дверь, она подходит к его кровати. Хватает за руки и говорит ему: „Не пожелай себе сна, твой зверек еще не вернулся домой, в твое сердце“.
Дедушка страшно не высыпается, в его годы эдак долго не протянешь. А мне всё сны снятся и снятся, как будто с головой у меня что-то не в порядке. Вот снилось, пришла я в сад и хочу сорвать цветок — петушиный гребень, красный. Высоченный он вымахал, как метла. Стебель не отрывается ни в какую, уж я и тяну, и кручу, и гну его туда-сюда. Семена сыплются, они вроде как соль, но черные. Потом гляжу — на земле-то не семена, а муравьи ползают. Говорят, муравьи во сне — четки, молиться, значит».
Летом бабушка-певунья ушла из дому. Она бродила по улицам и перед каждым домом кричала. Во весь голос. Но что она кричала, никто не мог разобрать. Если на крик кто-нибудь выходил, она спешила прочь. Мама искала ее по всему селу, но не нашла. Дедушка болел, мама не могла его оставить одного надолго.
Однажды вечером — уже стемнело — бабушка-певунья вошла в комнату. Мама спросила: «Где ты была?» Бабушка-певунья сказала: «Дома». Мама ей: «Не дома, а на селе. Дома — это здесь. — Она подтолкнула бабушку-певунью к стулу. — Кого ты там ищешь, в селе?» Бабушка-певунья ответила: «Ищу свою матушку». Мама сказала: «Это я». Бабушка-певунья удивилась: «Да ты же никогда меня не причесывала».
Бабушка-певунья начисто забыла всю свою жизнь. Она юркнула в свое детство и там укрылась. Лицу ее было восемьдесят восемь лет. А в памяти у нее остался один-единственный путь, и на этом пути стояла трехлетняя девчушка, тянувшая в рот уголок матушкина передника. Бабушка-певунья приходила с улицы чумазая, словно ребенок. Она больше не пела, но коли рот есть, значит, просит он есть, и бабушка тянула в рот все, что ни попадалось. Было пение — стало хождение. Никто не мог удержать ее на месте, так сильно было ее беспокойство.
Когда умер дедушка, ее не было дома. Когда его хоронили, в комнате с ней остался парикмахер, присматривать. «На похоронах она бы только мешала», — сказала мама.
«Раз уж мне не довелось присутствовать на похоронах, — сказал парикмахер, — я решил, что буду играть в шахматы, в тот час, когда тело предадут земле. Но бабушка вздумала убежать. От уговоров никакого толку не было, ну я и стал ее причесывать. Разок провел гребнем по волосам, и она села, и тихонько сидела потом, всё слушала, как звонили колокола».
Когда дедушку опустили в землю, на могиле отца уже цвели императорские короны.
В описании некой гидравлической машины мне встретилось слово «сверхживучесть». В немецко-румынском словаре его не оказалось. Я чувствовала, что может означать «сверхживучесть», если речь идет о людях — но только не о машинах. Спрашивала инженеров, спрашивала рабочих. Однако они, не выпуская из рук крупных или мелких жестяных баранов, лишь криво усмехались.
Пришла Тереза, я еще издалека увидела ее рыжие волосы.
Я спросила: Сверхживучесть?..
Она: Живучесть.
Я: Сверхживучесть.
Она: Откуда мне знать!
Тереза носила четыре кольца. В двух были красноватые камни, яркие, словно выпавшие из ее волос. Тереза расстелила на столе газету и сказала:
— Сверхживучесть… Ну, может, поем, и что-нибудь придет в голову. Сегодня у меня курочка, индейская.
Я развернула желтоватое сало и хлеб. Тереза нарезала то и другое кубиками и сделала двух солдатиков. Своего она только попробовала, и лицо ее скривилось.
— Тухлятиной отдает, — сказала она. — Скормлю собаке.
— Какой собаке? — спросила я.
Тереза достала помидоры и ножку индейки.
— Поешь-ка вот этого. — И она сделала двух новых солдатиков.
Тереза давно проглотила нового солдатика, а я все жевала-пережевывала старого. Тереза отделила от костей все мясо, до последнего волоконца.
Сунув мне в рот солдатика, она сказала:
— Насчет сверхживучести спроси-ка ты портниху.
Мое недоверие не допускало никакой близости; все, что я к себе привлекала, моя подозрительность отталкивала. Делая что-нибудь, я видела свои руки, но правда о делах моих рук ускользала, оставалась лишь ловкость рук, правду же я знала не больше, чем правду о делах маминых рук или Терезиных. И не больше, чем знала о диктаторе и его хворях, или об охранниках и прохожих, или о капитане Пжеле и кобеле Пжеле. И не больше знала я о жестяных баранах и рабочих или о портнихе и ее пасьянсах и гадании на картах. И так же мало — о бегстве и счастье.
На фронтоне фабрики, который с высочайшей высоты взирал что в небеса, что на землю, в глубину фабричного двора, висел лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
А внизу по земле шаркали башмаки, которые могли покинуть страну, только решившись на бегство. По мощеной площадке шагали пыльные или засаленные до блеска, громко стучащие или осторожно-бесшумные башмаки. Я догадывалась, что найдут они себе иные дороги, что однажды фабричные башмаки, как и многие другие, уже не будут ходить под этим лозунгом.
Башмаки Пауля здесь больше не ходили. Уже два дня он не появлялся на фабрике. Исчез, и сразу его тайна стала предметом пересудов. Все уверенно толковали о его смерти, словно определенно о ней знали. В неудавшемся побеге эти люди не видели ничего, кроме обыкновенного желания, из-за которого смерть настигала сегодня одного, а завтра кого-то другого. От этого желания они не отступались. Говоря: «Он никогда не вернется», — они имели в виду Пауля, а заодно с ним и самих себя — заранее. И звучали эти слова как те, что я слышала от фрау Маргит: «В Пеште меня уже никто не ждет». Хотя в Пеште, может быть, кто-то и ждал ее, тогда, вскоре после ее бегства.
Здесь, на фабрике, Пауля никто не ждал, ни единого часа не ждал. Не повезло ему, не посчастливилось, говорили эти люди, заметив, что он пропал, перестал ходить на работу, как было уже со многими до него. Все они стояли в очереди, точно в магазине. Вот обслужили кого-то, выдали ему смерть, и очередь продвигается. Что знают об этом молоко тумана, круги в воздухе или изгибы рельс… Смерть по дешевке что дырявый карман: сунешь руку — и вдруг будто целиком туда проваливаешься. Одержимость смертью одолевала людей тем злее, чем больше их, одержимых, уже погибло.
О погибших при побеге шептались не так, как о болезнях диктатора. Он ведь, едва прошелестит слух о его новом недуге, в тот же день появлялся на телеэкране и с завидной выносливостью бормотал очередную речь, бесконечным бормотанием отметал свою близкую смерть. Пока он бубнил, ему подыскивали новую болезнь, чтобы уж она-то наверняка его доконала.
Неизвестным оставалось лишь место смерти Пауля — кукурузное поле, небо, вода или товарный состав, — то последнее, что он еще увидел на свете.
Георг мне написал: «Дети ни одной фразы не произносят без „должен“. Я должен, ты должен, мы должны. Даже если чем-нибудь гордятся, все равно говорят: „Мама должна была купить мне новые туфли“. И это правильно. Я вот каждый вечер должен гадать, настанет ли утро».
Волос Георга выскользнул у меня из пальцев. Обшарив весь ковер, я нашла только волосы фрау Маргит и свои. Я сосчитала седые волоски фрау Маргит, словно по их числу могла определить, сколько раз она заходила в комнату. На ковре не оказалось ни одного волоса Курта, хотя Курт приходил каждую неделю. Волосы — штука ненадежная, но я все-таки их сосчитала. Тут за окном проплыла шляпа. Я бросилась к окну.
Это был господин Фейерабенд. Он шел, шаркая ногами, на ходу вытащил из кармана белый носовой платок. Я отскочила от окна, словно этот белый платок мог почувствовать, что такая вот девка, как я, пялит глаза на еврея.
«У господина Фейерабенда никого нет, кроме Эльзы», — сказала фрау Маргит.