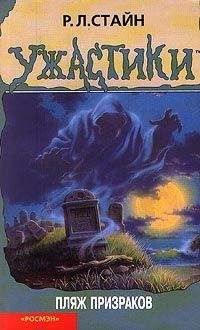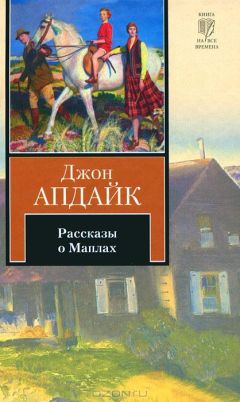Джон Апдайк - Давай поженимся
– Джерри, ты меня удивляешь, – сказала Руфь. – Нехорошо это.
Джерри схватил вилку и швырнул в нее – собственно, не в нее, а поверх ее головы: вилка через дверь вылетела на кухню, Джоанна и Чарли украдкой переглянулись, и оба чуть не фыркнули.
– Черт бы вас всех подрал, – сказал Джерри, – в свинарнике и то, наверно, приятнее читать молитву. Вы же сидите все, как один, голые.
– Ребенок хотел сделать как лучше, – сказала Руфь. – Он же не понимает разницы между благодарственной молитвой и обычной.
– Тогда какого хрена ты его не выучишь? Будь у него приличная мать, хоть наполовину, черт возьми, христианка, он бы знал, что молитву нельзя прерывать. Джоффри, – повернулся к сыну Джерри, – перестань плакать, если хочешь, чтоб ключица перестала болеть.
Потрясенный тем, что отец говорит с ним таким злым тоном, мальчик попытался что-то произнести:
– Я... я... я...
– Я... я... я... – передразнила его Джоанна.
Джоффри завопил точно резаный. Джерри вскочил и кинулся к Джоанне, намереваясь ударить ее. Она метнулась в сторону, перевернув при этом стул. Лицо у нее было такое испуганное, что Джерри рассмеялся. Этот бессердечный смех словно высвободил всех злых духов за столом: Чарли повернулся к Джоффри и, сказав: “Плакса”, ущипнул его за плечо и тем сдвинул ключицу. Руфь обрушилась на сына еще прежде, чем заревел малыш; Чарли закричал: “Я забыл, я забыл!” Потеряв голову от этой неожиданной вспышки злобы, стремясь обезвредить ее в зародыше, Руфь, все еще держа разливательную ложку, сорвалась с места и обежала вокруг стола с такой стремительностью, что ей казалось, она скользит на коньках. Свободной рукой она замахнулась на Джерри. Увидев ее занесенную руку, он спрятал голову в плечи и закрыл лицо ладонями – взгляду ее предстал затылок с гладко прилизанными волосами и пробивающейся кое-где сединой. Затылок у него оказался тверже ее руки; она подвернула большой палец – боль застлала ей глаза. Ничего не видя, она молотила и молотила эту упрямо склоненную башку, не в состоянии одной рукой – потому что другой продолжала сжимать разливательную ложку – добраться до глаз, до его полного яда рта. Когда она замахнулась на него в четвертый раз, он встал и, схватив ее запястье, так сжал, что тонкие косточки хрустнули.
– Ты, истеричная холодная стерва, – ровным тоном произнес он. – Никогда больше не смей ко мне прикасаться. – Он произнес это, отчеканивая каждое слово, и лицо, которое, наконец, смотрело на нее, было хоть и красное, но смертельно-спокойное, – лицо подрумяненного трупа. Кошмар начался.
Двое старших детей умолкли. А Джоффри плакал и плакал, терзая всем нервы. Эластичный бинт двойной петлей туго обвивал его голые плечики, так что пухлые ручки беспомощно висели, как у обезьянки. Джерри сел и взял Джоффри за руку.
– Ты умница, что хотел прочесть со мной молитву, – сказал он. – Но благодарственную молитву читает всегда только один человек. Может быть, на этой неделе я научу тебя этой молитве, и тогда в будущее воскресенье ты скажешь ее вместо папы. О'кей?
– О-о-о... – продолжая всхлипывать, малыш попытался выразить свое согласие.
– О-о-о... – шепнула Джоанна на ухо Чарли; тот фыркнул, бросил искоса взгляд на Руфь и снова фыркнул.
А Джерри продолжал уговаривать Джоффри:
– Ты умница. Ну, перестань же плакать и ешь горошек. Дети, верно, наша мама молодчина, что приготовила нам такой вкусный горошек? А папа сейчас нарежет вкусное жаркое. Где эта чертова вилка для жаркого? Извините, все извините. Джоффри, прекрати.
Но Джоффри никак не мог остановиться: все тельце его сотрясалось, события последних минут снова и снова возникали в памяти. Руфь обнаружила, что тоже дрожит и не может произнести ни слова. Она не могла подладиться к Джерри, старавшемуся шутками и прибаутками вернуть детям хорошее настроение, заставить их снова полюбить его, и чувствовала себя лишней. На кухне, принявшись мыть посуду, Руфь разрыдалась. Сквозь оконные стекла, на которых появились первые ломаные штрихи дождевых струек, она видела, как Джоанна, Чарли и двое соседских детишек играют в большой зеленый мяч под темным, фиолетовым небом. Джоффри она уложила наверху спать. В кухню вошел Джерри, поднял вилку с пола и, став рядом с женой, молча взял полотенце и принялся вытирать посуду. Она уже забыла, сколько месяцев тому назад он последний раз помогал ей с посудой. И сейчас в этой его молчаливой помощи она почувствовала что-то угрожающее и заплакала сильнее.
– В чем все-таки дело? – спросил он.
От слез у нее драло горло и трудно было говорить.
– Извини меня за эту вспышку, – сказал он. – Я не в себе эти дни.
– Из-за чего?
– О... из-за всякого разного. Близость смерти? Я перестал об этом думать и просто начал умирать. Посмотри на мои волосы.
– Это тебе идет. Ты стал красивее.
– Наконец-то, да? То же и с работой. Чем меньше я рисую, тем больше меня любят. Им нравится, когда я говорю. Я стал чем-то вроде подставного лица вместо Эла.
– Ты мог бы уйти.
– Когда у меня столько детей?
– Эти вытирать не надо. Поставим остальные на сушилку.
– А ничего, что дети бегают по дождю?
– Пока он еще не такой сильный.
– Может, взять их с собой в кегельбан поиграть в шары, когда дождь разойдется?
– Они были бы счастливы.
– Значит, стал красивее. Что же побудило тебя выйти замуж за такого гадкого утенка?
– Тебя действительно мучает твоя работа?
– Нет.
– А что же?
– Нам обязательно об этом говорить?
– А почему бы и нет? – спросила она.
– Я боюсь. Если мы начнем говорить, то можем уже не остановиться.
– Давай. Пасуй на меня.
Услышав команду, он будто расцвел; ей почудилось – хотя от слез все расплывалось перед глазами, – что плечи его распрямились, словно с них упали оковы, и он вдруг стал шириться, разбухать, как разбухают облака над пляжем.
– Пошли, – сказал он и повел ее из кухни в гостиную, затем мимо большого старого камина – к фасадным окнам, смотревшим на вяз. На подоконнике, у самого переплета, лежала маленькая бурая кучка монеток, оранжевая бусинка из индейского ожерелья, которое Джоанна мастерила в школе, тусклый медный ключ от чего-то, чего ему уже никогда не открыть, – от чемоданов, сундука, детской копилки. Во время их разговора Джерри не переставая играл этими предметами, словно пытался выжать из них непреложный приказ, конечный приговор.
– Тебе никогда не казалось, – спросил он, намеренно четко произнося слова, как если бы читал вслух детям, – что мы совершили ошибку?
– Когда?
– Когда поженились.
– Разве мы не любили друг друга?
– А это была любовь?
– Я считала, что да.
– Я тоже так считал. – Он ждал.
И она откликнулась:
– Да, тогда мне казалось именно так.
– Но теперь не кажется.
– Нет, кажется. По-моему, мы стали лучше ладить.
– В постели?
– А разве мы не об этом говорим?
– Не только. Руфь, а тебя никогда не тянет выйти из игры до наступления конца?
– О чем ты, Джерри?
– Детка, я просто спрашиваю тебя, не совершаем ли мы страшной ошибки, намереваясь остаться в браке до конца жизни.
У нее перехватило дыхание, почудилось, что кожа на лице застыла, как одна из стен этой замкнутой комнаты, ограниченной коричневым подоконником с кучкой монеток, низкими фиолетовыми облаками, на фоне которых бледными тенями вырисовывались веточки вяза, квадратом стекла, исполосованным каплями дождя. Голос Джерри окликнул ее:
– Эй?
– Что?
– Не расстраивайся, – сказал он. – Это всего лишь предположение. Идея.
– Что ты оставишь меня?
– Что мы оставим друг друга. Ты сможешь вернуться в Нью-Йорк и снова стать художницей. Ведь ты же столько лет не писала. А жаль.
– Ну, а как будет с детьми?
– Я об этом думал – нельзя ли нам как-нибудь их поделить? Они могли бы видеться друг с другом и с нами, сколько захотят, и право же, все было бы не так уж плохо, лишь бы это соответствовало нашим обоюдным желаниям.
– А какие же, собственно, должны быть наши желания?
– Те самые, о которых мы сейчас говорим. Ты могла бы писать, и ходить босиком, и снова приблизиться к богеме.
– Перезрелая представительница богемы – вся в морщинах, с варикозными венами на ногах и выпирающим животом.
– Не говори глупостей. Ты же молодая. Ты сейчас куда лучше выглядишь, чем когда я впервые тебя встретил.
– Как это мило с твоей стороны!
– Ты могла бы взять Чарли. Мальчиков лучше разделить, а Джоанна нужна мне, чтобы помочь вести дом.
– Они нужны друг другу и нужны мне. Все нужны. И всем нам нужен ты.
– Не говори так. Я тебе не нужен. Тебе – нет. Я не создал тебе подобающей жизни, я не тот мужчина, который тебе нужен. И никогда им не был. Просто развлекал тебя, как коллега-студент. Тебе нужен другой мужчина. Тебе нужно выбраться из Гринвуда.
Она терпеть не могла, когда в голосе его начинали звучать визгливые нотки.