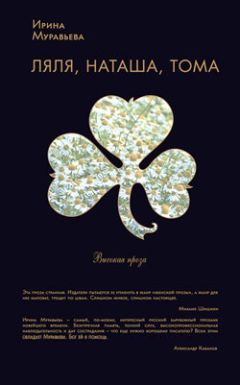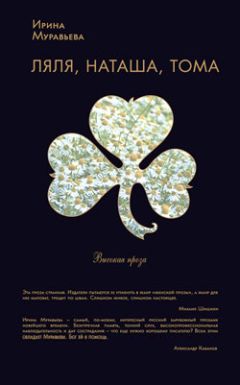Ирина Муравьева - Ляля, Наташа, Тома (сборник)
– Да что? – огорчался он, и тень набегала на его лицо. – Она развелась, а немцу не дают визу, он не может приехать. Ее никуда не выпускают тоже. Работы нет. Паршиво.
Отец разлил по пластмассовым стаканчикам черный кофе из термоса.
– Я бы лучше чайку, Ленька, – смущенно сказал он. – Сердце что-то очень стучит. Хотя ладно, давай кофе, где наша не пропадала! – И, обжигаясь, продолжал: – Ей не простят такого. Я очень тревожусь. И не знаю, как помочь. Да и все равно она бы не послушала.
– Что ты можешь сделать? – спрашивал отец. И громко, на весь лес, произносил, словно теша самого себя: – КГБ! Они шутить не любят. Ведь она же на них работала? Так?
– Так. – Он пожимал плечами. – Похоже, что так… Учитывая все эти поездки… Мы это, как ты понимаешь, не спрашивали.
– На что она живет? – спрашивал отец, как бы не настаивая на ответе.
– Да он ее подарками завалил! Посылками. И деньгами, кажется, тоже. Ну, она их, конечно, переводит в рубли… Машину собирается покупать. Вообще, знаешь, настоящая европейская женщина! Сколько она меня мучила за последние годы, а я все-таки восхищаюсь! Моя же дочка! Я ведь ее пеленал! Куда денешься?
– Срывается она? – неловко бормотал отец.
– Очень, – признавался он. – Но я понимаю. У нее нервы перенапряжены. Не спит. Настроение скверное. Полная неопределенность. Ребенка жаль. Он никому, кроме нас с Людой, в сущности, не нужен.
Над домиком лесника, золотившимся посреди опушки, вился легкий дымок. Белое промороженное беззвучие нарушалось лишь редким вороньим криком.
– Ну, поехали, Михеле, – по-немецки говорил отец и резко отталкивался палками от взлетающего вверх снега. – Выкинь ты все это из головы. Она справится, вот увидишь.
Он застегивал свою полосатую курточку, надевал рукавицы.
– Беда в том, – и опять опускал глаза, – что я в такой ситуации ни на что не могу решиться…
– Можно подумать, что в другой ситуации ты бы решился…
– Может быть, может быть, – он отрывался от земли, и где-то глубоко в груди опять сжимало. – А сейчас я поступаю так, как обязан, как мне велит сердце. Я не могу разорваться пополам, не могу. Это моя дочка…
– Да, – уже на бегу отзывался отец. – Мы их пеленали, пеленали. А потом они выросли…
Белые гладкие холмы лежали перед их слезящимися глазами, как туго спеленутые свертки. Шапки опушенных снегом кустов напоминали растрепанные детские головы. Вдалеке надрывно заголосила электричка. Эх, хорошо, мать честная… Оставили бы нас всех в покое…
Из Кельна приходили большие красивые свертки. Люда хрипловато вскрикивала от восхищения. Закусив губу, Марина прикидывала перед зеркалом свитера, платья, куртки.
– Это продадим, – жестко говорила она. – Позвони Люське. Это дерьмо вообще никому не нужно, будет чей-нибудь день рождения – подарим. Это вроде ничего… – откидывалась назад, не спуская с себя глаз. – Буду носить. Кофту с золотыми пуговицами, ма, бери себе, она какая-то старушечья. Ха! Ты посмотри! Коктейльное платье! Он вообще ничего не соображает! Куда я его надену? Мусор выносить?
Лицо ее краснело, и глаза становились мокрыми. Люда гладила ее по спине короткой пухлой рукой:
– Но мы же надеемся…
– Ох, ма-а-ма! – почти кричала Марина. – Ма-а-ма! А если ничего не получится? Какого черта я все это затеяла? Мне что, спать не с кем было? Или кушать нечего?
У Люды мелко дрожал подбородок.
– Ты никогда ни с кем не советовалась, мы с отцом давно ушли из твоей жизни…
– С отцом? – перебивала Марина. – С каким отцом? С этим бабником старым я буду советоваться? Кстати, – и она переходила с крика на свой обычный, вкрадчивый голос. – Я думаю, нам лучше разменять квартиру. На трехкомнатную и двухкомнатную. Можно, в крайнем случае, слегка доплатить.
– Мне кажется, он не согласится, – неуверенно возражала Люда. – Он так любит эту квартиру…
– А кто его будет спрашивать? – усмехалась Марина и вновь принималась за вещи.
Ни один человек в мире не раздражал ее так сильно, как отец. Звук его голоса действовал, как скрип ножа по стеклу. При этом она хотела, чтобы его подчинение ей и матери было полным и безоговорочным. Выражения преданности и робкой зависимости вызывали какое-то болезненное удовлетворение, хотелось поймать его унижение, его слабость. Эта женщина, которую она никогда не видела, вызывала физическое отвращение. Она отняла у нее отца. С тех пор как они встретились, у Марины появилась соперница. Не у матери, мать была не в счет, он не обязан был любить ее и быть ей верным, но у самой Марины, главной и единственной, которая с детства знала, что, если у нее вдруг заболит живот, он испугается и побледнеет, а если девочка из параллельного класса скажет ей гадость, он пойдет к учительнице объясняться. И ни у кого не было таких платьев, как у нее, и таких сапог, купленных втридорога, и, главное, такой власти над этим невысоким, сияющим, элегантным человеком, на которого она как две капли воды похожа. Куда же все это делось? Как она пропустила момент? Не запретила ему? Не настояла на своем? Сейчас, когда она стала взрослой женщиной, детское чувство оскорбления переросло в ненависть. Лучше всего было разменять квартиру и разъехаться. Но пусть он и тогда служит ей. И матери. За все, что они пережили в течение этих лет, за все обиды, все…
– Опять к своей конотопской бляди поехал, – отчетливо произносила она в те дни, когда, наскоро придумав какую-то отговорку, он исчезал из дому.
Опухшее со сна материнское лицо покрывалось пятнами. Рука беспомощно опускала на блюдечко чайную чашку.
– Откуда ты знаешь? Может, там все уже кончено? – неуверенно шептала мать, виновато глядя поверх Марининой головы.
– Кончено? – взвизгивала Марина. – А ты помнишь, какой он явился оттуда прошлый раз?
– Какой? – мать прыгающими пальцами хваталась за сигарету.
– У него весь воротничок был испачкан помадой, – весело смеялась Марина. – Не помнишь, да?
– Не помню, – хрипло выдавливала Люда.
– А она ничего, знает дело, – продолжала Марина. – Даром что из провинции!
– Тебе приятно мучить меня, да? – всхлипывала мать.
– Ма-а-ма! – Марина наваливалась грудью на стол, блестела в материнские глаза темными страшными зрачками. – Ма-а-ма! Посмотри, на кого ты похожа! Думаешь, дело в тряпках? Думаешь, ему интересно, какая у тебя шуба и какая пижама? Плевал он на это! Мужчине нужно только тело! Голое тело, и больше ничего! А тряпки – это трата денег, это вызывает одно раздражение!
– Но в его-то возрасте… – шептала Люда. – Какое тело…
– Ты убиваешь меня, мама! Именно в его-то возрасте! Возраста для этого не существует! Они и влюбляются по-настоящему, только когда им пятьдесят и больше! Потому что время подстегивает! Тут-то все и начинается. Почему, ты думаешь, Томас так сходит с ума?
Томас сходил с ума. Два раза в неделю он звонил ей из Кельна. С оказией переводил деньги. Обивал пороги в ожидании советской визы. В визе регулярно отказывали. Она понимала, что это месть ей за попытку перейти дозволенное. Она увлеклась новыми возможностями и изменила своим. Свои были завистливы и злопамятны. Друзей становилось меньше, знакомство с ней могло привести к неприятностям. И это после такого взлета, такого успеха, таких виражей! Отец был виноват во всем. В чем? Объяснить она не могла. Но он был виноват и должен был расплачиваться вместе с ней. Пусть. К черту. Пусть все тонет.
Ему не спалось. Мешало какое-то настойчивое хрустение в воздухе. Казалось, что все предметы: стена розового будуара, Людины волосы на подушке, кусок крыши за отогнувшейся шторой – все слегка похрустывает и движется. Чтобы заснуть, нужно было остановить это движение. Забыть о нем. Он встал и вышел на кухню. Марина сидела за столом поджав ноги, пила чай.
– Почему ты не спишь? – спросил он.
– А ты?
– Бессонница.
– У меня тоже.
– Тебе еще рано.
– А я думаю, как раз.
Сейчас, в предрассветном полумраке, она казалась ему моложе и напоминала саму себя в детстве, в том времени, когда ничего этого еще не было: ни перламутровых ногтей, ни хриплого голоса, ни мужчин, маячивших за ее плечами, где-то раздевающих ее, оскорбляющих, ласкающих. Чужих мужчин, похожих на него, ее отца. Она шумно втягивала чай, вытянув губы трубочкой (сколько раз он отучал ее от этой привычки! Откуда опять?), и лицо у нее было грустное и слегка обиженное, словно он запретил ей пойти на елку во Дворец съездов.
– Тебе бы поехать куда-нибудь, – вздохнул он, дотрагиваясь до ее затылка.
– Куда? – спросила она.
– Если ты хочешь, я что-нибудь придумаю, – привычно пробормотал он. – Достану путевку.
Она оторвалась от чашки. Глаза ее покраснели.
– Поздно, – жестко сказала она.
– Что поздно? – растерялся он.
– Поздно тебе меня задабривать. – Глаза ее краснели все больше и больше. – Сам езжай куда хочешь.
Он беспомощно привалился спиной к дверному косяку.