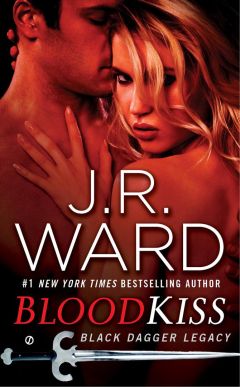Роберт Уоррен - Место, куда я вернусь
— Ну и что, переживет, — сказал я, пытаясь ее утешить.
— Но Перри… Он такой… Он такой… — Она никак не могла подобрать нужное слово.
— Какой «такой»? — спросил я, начиная чувствовать вполне определенную неприязнь к этому Перри, которого никогда не видел.
— Он такой… Такой… — начала она. — Такой чувствительный. Понимаете, я…
Это было все, что она смогла произнести.
— Вы хотите сказать, что дали ему отставку и теперь считаете, что вы виноваты? Да?
— Да. — Она кивнула. — А ведь он готовился целых четыре года!
— Господи Боже! — не выдержал я. — Четыре года готовиться к экзамену? Он что, дефективный?
— Я вас ненавижу! — воскликнула она, и последовавшие за этим звуки свидетельствовали о том, что все предшествовавшее было всего-навсего разминкой. Один взрыв рыданий сменялся другим. Я мог думать только об одном — это надо прекратить. Поэтому я обнял ее за плечи — левой рукой, если это имеет какое-то значение, — и принялся похлопывать ее еще более энергично. И тут Агнес, словно центр нападения, получивший мяч, вдруг пригнувшись, рванулась в мою сторону головой вперед — такой рывок сделал бы честь любому футболисту университета штата Алабама. На ней все еще были очки в роговой оправе, и острый угол оправы сквозь одежду и мышцы уперся прямо в мою ключицу, защищенную, к несчастью, только рубашкой и легким пиджаком, потому что дело было весной.
Я услышал новый взрыв рыданий. Поток слез промочил мне насквозь — клянусь! — и пиджак, и рубашку. Тогда, все еще обнимая ее за плечи левой рукой и чувствуя, как острый угол оправы повернулся в ране и из нее хлынула кровь, я сделал глубокий вдох и сказал:
— Послушайте, может быть, я и бесчувственный болван, и свой кандидатский экзамен я сдал на отлично, и мне приходилось собственными руками убивать людей, но если вы можете примириться с такими недостатками, то выходите-ка за меня замуж, а про этого несчастного Перри забудьте!
— Какой вы недобрый! — воскликнула она на этот раз, подняв голову, но тут же снова бессильно уронила ее на прежнее место. Я продолжал похлопывать ее по плечу, рыдания понемногу стихали, угол оправы перестал терзать мое израненное тело, и постепенно страждущие обрели покой.
Однако, если не считать всех этих глупостей, в моих отношениях с Агнес обычный процесс перехода от вожделения к уважению оказался, как ни странно, перевернут задом наперед, и только после того, как о нашей помолвке был оповещен немногочисленный круг наших знакомых, я начал осознавать ту привлекательность Агнес, о которой говорилось выше. Впрочем, Агнес знала, как усилить это зарождающееся чувство до самой высокой степени.
Здесь, поразмыслив, я прихожу к выводу, что слово «знала» совсем не подходит. У нее было не знание, а инстинкт — столь же эффективный, как мудрость Змия. Например, какая женщина, вынашивающая коварный замысел, могла бы избрать такси местом для сцены, которая должна была побудить меня сделать ей предложение? Такая женщина выбрала бы какой-нибудь тихий, уютный, освещенный свечами уголок — и жертва непременно учуяла бы неладное. Другими словами, слишком много ума — это та же глупость. Но такси! Что могло успешнее усыпить все подозрения и свидетельствовать об искренности, о глубине подлинного чувства, о сердечной простоте и даже об отсутствии всякого расчета в ее рыданиях?
А после нашей помолвки — какие хитрости и уловки могли бы довести меня до той кондиции, которой Агнес добилась без всяких усилий? Сейчас объясню: после помолвки (до этого я еще ни разу ее не целовал — больше того, даже мысль об этом не приходила мне в голову) я, следуя правилам хорошего тона и испытывая первые приступы зарождающегося вожделения, раза два пытался схватиться со своей невестой вплотную, но из этого ничего не вышло. Она была порядочная девушка в самом старомодном понимании этого слова. Никакого коварства тут не было, просто она выросла в Рипли-Сити.
Рипли-Сити (названный, как я позже узнал, в честь бригадного генерала, заслужившего некоторую известность тем, что безжалостно истреблял индейцев до тех пор, пока они не заманили его в ловушку) — городок в штате Южная Дакота с несколькими тысячами жителей, где отец Агнес был лютеранским священником и в тамошней иерархии чем-то вроде четвертого, и не самого младшего, члена Святой Троицы. Мы договорились, что в июне, как только она защитит диссертацию, мы с ней поедем в Рипли-Сити, где ее отец проведет брачную церемонию. Попросту говоря, она ляжет со мной в постель только после того, как ее отец скажет, что это можно. У меня было смутное, но, безусловно, несколько неприятное чувство, что никто другой из представителей церкви или государства не мог бы заставить ее это сделать. Это был классический пример того, как отец в буквальном смысле отдает свою дочь замуж.
Тем временем я два раза в неделю приходил к ней домой, где она подавала мне херес (я тайно смешивал его у себя в желудке с принесенной водкой), кормила восхитительным обедом, во время которого мы вели отрывочный разговор о делах, а потом, позволив мне уговорить себя, садилась ко мне на колени, и мы, обнимаясь с должной сдержанностью, предавались мечтам о предстоящем блаженстве. Вечер за вечером мы рисовали картины нашей будущей жизни, где фигурировали нерушимая верность друг другу и науке, трое до невозможности смышленых белокурых детей, прекрасные книги, которые мы когда-нибудь напишем, совместное путешествие по Европе, избранный кружок интеллектуальных друзей, маленький коттедж на уединенном озере в штате Миннесота, где мы будем проводить лето, укрепляя здоровье и предаваясь медитации. В общем, нам виделся некий плавучий островок счастья, отрезанный от всего мира.
Поначалу наши объятья всегда были сдержанными, но под конец они стали понемногу выходить за рамки корректности — моя рука перебиралась с ее талии на грудь, ее губная помада оказывалась слегка размазанной (теперь, готовясь к этим нашим свиданиям, она красила губы, причем довольно щедро, хоть и неумело), она часто теряла нить разговора, ее взгляд устремлялся куда-то в пространство, а дыхание учащалось. Однажды она даже вскочила с моих колен и в каком-то отчаянном смущении, расплакавшись, попросила меня уйти — «прямо сейчас, ну пожалуйста, сейчас же, и не целуй меня на прощанье, да, я тебя люблю, но прошу тебя, уходи сейчас же».
Я надеялся, что, несмотря на все эти новые для меня и интересные переживания, смогу продержаться до 23 июня. Я все больше убеждался, что держаться было ради чего — более того, как только папаша выстрелит из стартового пистолета, начнется нечто вроде золотой лихорадки в Калифорнии.
И проигрыш здесь не грозит.
С воздуха Рипли-Сити выглядел крохотной проплешиной на зелено-пурпурной бархатистой поверхности безбрежных прерий. А в непосредственной близости он оказался обычным городком американского Запада — с широкими пустынными улицами, по которым гулял ветер, с универмагами и миниатюрным филиалом Пиплз-Траст-банка, которые пришли на смену барам и борделям более привольных времен, с продавцами и стенографистками, которые сменили охотников на буйволов, шулеров, бандитов в сапогах на высоких каблуках и женщин легкого поведения в тесных корсетах и туфлях на столь же высоких каблуках. Вместо прежних мустангов у коновязи теперь стояли «форды» и «шевроле» прошлогодних моделей, но небо там то же, что и было всегда, и имя ему, конечно же, — Одиночество.
Я еще никогда не бывал на Западе, и эта разновидность одиночества была для меня новой. Ее новизна, как мне показалось, заключалась в том, что здесь окружающие просторы разбегаются во все стороны, человек истекает ими, как кровью, и если он не в состоянии их остановить, то в конце концов от него, словно от дохлого кузнечика, остается всего лишь сухая, прозрачная скорлупка, сквозь которую беспрепятственно льются палящие лучи солнца. Поэтому люди здесь стараются сбиться в кучу, как скот перед бурей, только эта буря надвигается не с неба, и порождают ее не стихии. Больше того, ощущение надвигающейся опасности становится сильнее всего в самый безветренный день, когда горизонт, на глазах убегающий вдаль, зыблется в жарком сиянии. Эта буря — чисто метафизический смерч, который засасывает душу человека и уносит ее неизвестно куда. Нет, пожалуй, лучше будет вернуться к прежнему сравнению — человек как будто исходит кровью, которая понемногу растекается на все четыре стороны.
Во всяком случае, для меня такое одиночество было новым. Ибо, в отличие от этого истекания души в окружающие просторы, хорошо знакомое мне одиночество — одиночество Юга, а не Запада, — подобно внутреннему кровотечению: это излияние души в глубь самого себя, прочь от окружающего мира, во внутреннюю бесконечность, словно в бездонную яму. К такому одиночеству я привык с детства и сполна использовал все его возможности. Я был истинным, высокой пробы, художником одиночества, чемпионом Алабамы.