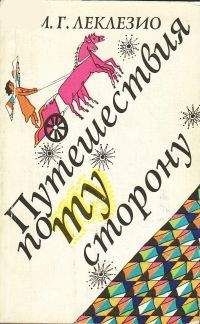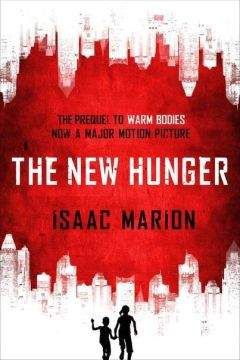Жан-Мари Леклезио - Танец голода
Денег уже не хватало. Все вырученное Жюстиной от продажи вещей, обойденных вниманием парижских скупщиков, кончилось к началу зимы. Нужно было покупать уголь для печки и керосин для лампы, гаснущей от сквозняка. Из квартиры на последнем этаже старого безымянного здания с огромной дверью открывался великолепный вид, однако оцинкованное железо промерзало насквозь, в окнах мансарды свистел ветер. Квартиросъемщики перестали платить хозяевам (в конце концов, ведь идет война, не так ли?), поэтому те не заботились о ремонте, в кухне и туалетах капало с потолка. Жюстина расставила повсюду тазы с папоротником, а в цветочных горшках, висевших на перилах балкона, посадила салат и морковь. Александр смешивал сушеную морковную ботву с табачными крошками, уверяя, что эта смесь напоминает ему сладкий вкус виргинского табака.
Мало-помалу повседневные хлопоты заняли главное место в их жизни. Казалось, они теперь все время смотрели под ноги — в поисках монетки, булавки, окурка. В квартире пахло плесенью, на улицах и во дворах висел дым. Этель поднималась вверх по улице, толкая рядом велосипед, нагруженный продуктами, овощами и поленьями для очага. Вдыхала запах подвалов, длинных стен, смутно угадываемый шепот, долетавший из-под ног. Вздрагивала, как в детстве, когда спускалась в подвал дома на улице Котантен, изо всех сил сжимая руку служанки, — с заданием найти там бутылку вина или наполнить корзину картошкой.
Хотелось уехать далеко-далеко и как можно скорее. На рынке все стоило дорого. И все продавалось. Этель покупала ботву репы, тыквы, капустные листья. Быть выходцем с Маврикия — значило выживать, жуя эту кроличью еду, сдобренную остатками карри и крупинками шафрана.
В полдень дела заканчивались. Меж пустых прилавков двигались тени: старики, нищенки; они ворошили мусор палками и засовывали находки в свои джутовые мешки: гнилые овощи, мятые фрукты, зеленые коренья, мясные обрезки, шкурки. Молчаливые, как собаки, согнувшись пополам, в обносках, в одеялах, с черными руками, нестрижеными ногтями, вытянувшимися лицами, крючковатыми носами и торчащими подбородками. Колесо велосипеда протискивалось между мусорными кучами, педали задевали Этель за икры, ей не приходилось звонить в ржавый звонок: при ее приближении тени исчезали сами, на миг остановившись, повернув голову в ее сторону и бросив косой взгляд. Одна из них, пожилая женщина — согбенная, худая, — вдруг подняла голову, и Этель испытала шок, узнав черные, подведенные углем глаза и нарумяненные щеки Мод. Сердце у нее заколотилось, и она, толкая велосипед, бросилась к выходу с рынка. Вскочила в седло, изо всех сил нажала на педали, спасаясь бегством в лабиринте старого города; ее преследовало лицо старухи: ястребиный нос, серо-синие глаза со следами угля вокруг, накрашенный морщинистый рот, выражение жадности и печали. Этель убеждала себя, не желая признать очевидное: «Нет, это не Мод, не она, это просто одинокая старуха, тихо погибающая от голода».
Жюстине об этой встрече она не рассказала. Враг семьи, источник скандалов, женщина, находившаяся рядом, когда дела Александра стали приходить в упадок, — как могла она превратиться в нищенку, собирающую, чтобы выжить, гнилые отбросы?
Этель раздумывала. По-своему это справедливо. Теперь они все наказаны, отвержены, преданы за свою прошлую гордыню. Временщики, «артисты», мошенники, аферисты, хищники. Все, кто кичился своим нравственным и умственным превосходством, роялисты, расисты, супрематисты, мистики, спириты, ученики Сведенборга, Клода де Сен-Мартена, Мартинеса де Паскуали, Гобино, Ривароля, последователи Морраса, «королевские молодчики»[45], мордрелевцы,[46] пацифисты, мюнхенцы[47], коллаборационисты, англофобы, кельтоманы, олигархисты, синархисты[48], анархисты, империалисты, кагуляры[49] и сторонники Лиги. Все эти годы они держались на плаву, ходили перед трибунами, распушив хвосты, плевались, рассуждая о вреде евреев, негров, арабов, бахвалились, изображая поборников справедливости. Все те, кто, подобно Александру Брену, трясся за свои привилегии, со страхом ожидая большевистской революции или анархистского мятежа. Те, кто собирался на арене Вель-д'Ив, требуя свободы Шарлю Моррасу, примыкал к Лиге, образованной против Даладье, корчил гримасы, узнав об отречении Ля Рока, аплодировал Пию XI и Гитлеру, призывавшим к уничтожению коммунистов. Те, кто приговорил к тюремному заключению Нгуен Ай Куока, выступившего за право Индокитая принимать самостоятельные решения, кто обрек на казнь профессора Нгуен Тай Хока, отстаивавшего независимость Вьетнама, все, читавшие Поля Чака, Ж.-П. Максанса, Л.-Ф. Селина и смеявшиеся над рисунками Карба: «Оп-па! Франция больше не является родиной для безродных!» Один из рисунков, подписанный «Дядя Сэм», изображал статую Свободы в Нью-Йорке, потрясающую семисвечником.
Теперь их вселенная пришла в упадок, развалилась на части, утонула в нечистотах. Их вынудили блуждать подобно теням, запертым в башне, питаться объедками и несозревшими плодами; казалось, что среди наступившей бесконечной зимы они грызут саму землю, уголь и железо.
Провозглашаемый ими новый мир так и не возник. Они верили в расу сверхлюдей, потомков истинных хозяев, по своему желанию творящих со вселенной все что угодно. Едва замечали происходящее вокруг. Выдумывали себе родословные, дабы подчеркнуть свое отличие от «людей второго сорта». И не сразу поняли, что же случилось на самом деле. Не желали видеть очевидное.
Чего они ждали? Некоторые — когда ненавистный им со времен битвы при Гран-Порт англичанин, этот злодей, высадившийся на мысе Бедствий, чтобы, обернув тряпками копыта лошадей, незамеченным пройти через тростниковые поля Many и ударить по французскому арьергарду возле Порт-Луи[50], этот негодяй, пустивший ко дну весь французский флот при Мерс-эль-Кебире, не дав ему ни единого шанса, англичанин, отказавшийся сражаться за Дюнкерк[51], свалится наконец со своего трона и, как прежде они сами, позорно склонит голову перед красно-черным штандартом с мерзким пауком.
Постепенно мир вокруг них становился все меньше. Они желали править и ради этого оказались готовы на любое бесчестье. Теперь они поняли, что оккупанты не видят никакой разницы между ними и теми, другими: их точно так же убивают и отправляют в тюрьмы, как и всех этих нищих, безымянных, безродных, появившихся на свет лишь для того, чтобы прислуживать хозяевам.
Одни попытались выплыть, как генеральша Лемерсье, от огорчения ставшая еще более язвительной. Хитрец Шемен принес свое ремесло нотариуса в дар Германии, составляя списки имущества, конфискованного у евреев и предназначенного к продаже с торгов.
Были случаи и похуже: Талон, этот мерзкий Талон, эта рыба-прилипала, вместе с некими Лабро и Шампьоном открыл на бульваре Капуцинов (дом девять), а потом на улице Монмартр фирму, занимавшуюся непосредственным распределением имущества, ранее принадлежавшего Рубинштейнам и Вайнбергам; затем, в Вирофле, другую, распоряжавшуюся бывшей собственностью Абрахама Лоу. Этель думала о них с холодной ненавистью: они ничуть не изменились, и весь кошмар, происходящий вокруг, — изгнание, гибель, депортация соотечественников — лишь удесятерил их власть.
Можно ли было ожидать чего-то другого от этих призраков, брошенных в пасть волку, без раздумий впитывавших любую ложь своего времени, слепо веривших в свою избранность, искренне считая себя людьми высшей расы? У нее просто больше не было времени их ненавидеть.
Ницца, опереточный город, сохранивший английский декор времен лорда Брума энд Вокса,[52] русский — эпохи Императрицы и Марии Башкирцевой;[53] город безразличный и жестокий, распростершийся на солнце и холодном ветру, налетавшем с холмов, с жителями, похожими на черные, впечатанные в асфальт тени, напоминал Этель мышеловку.
Ей пришла на память глава из «Посмертных записок Пиквикского клуба», где говорилось о тюрьме и ее узниках — должниках, лжеаристократах и настоящих паразитах, ходящих по кругу, переговаривающихся через балконные решетки, — в общем, обделывающих свои дела так, словно они по-прежнему сидят где — нибудь в Сити.
Улицы постепенно обезлюдели, в местах недавних увеселений и садах с фонтанчиками в честь Любви охотились бродячие коты. Опустел парк Шенбрун, вилла Смит, вилла Вижье, замки Нестле и Скофье, Атеней и все старомодные величественные отели: «Руль», «Негреско», «Сплендид», «Вестминстер», «Плаза», где в прежние безоблачные годы часто бывали Александр с Жюстиной, «Эрмитаж», обезображенный фуникулером; росшие там деревья напоминали Александру о девственных пальмовых зарослях возле его родного дома в Моке, на Маврикии.
Итальянские офицеры занимали целый этаж «Плазы», однако теперь — ибо и среди расы господ есть своя иерархия — их сменили немцы. Однажды Этель с Жюстиной шли по центру города, и Жюстина остановилась, махнув рукой куда-то в конец улицы, поднимающейся по склону холма Симиез: там, дерзко освещенное зимним солнцем, возвышалось белое здание. «Вот все, что осталось от нашего свадебного путешествия», — выдохнула она. Этель едва удержалась от саркастического замечания: «В этом-то караван-сарае меня и зачали?»