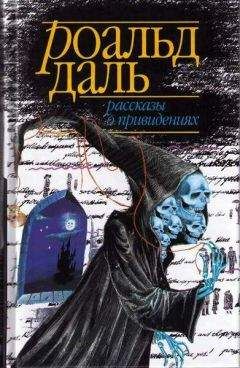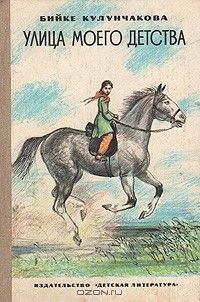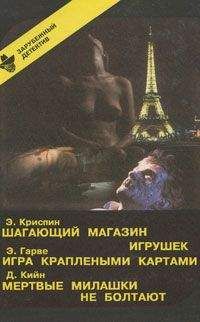Даниил Гранин - Заговор
Легкая победная война в Европе укрепила самоуверенность Гитлера. Породила великолепное настроение среди генералитета вермахта.
Однако уже через месяц у Лееба появилось уважение к противнику: «Русские сопротивляются отчаянно, с гранатой идут на танки». План блицкрига все чаще нарушается. К концу июля 1941 года Гальдер понимает, что наступление следует сосредоточить только на Москве.
Когда Гитлер был на вершине власти, генералы считали, что план вторжения в Россию гениален. К началу августа они стали считать, что план плохо исполняется, а еще через пару месяцев они почувствовали себя умнее Гитлера. Оказалось, что открыть второй фронт: напасть на Россию — не такое легкое дело. Они оккупировали четырнадцать европейских стран. К 1941 году слава Гитлера утвердилась: «Величайший в мире полководец». И уверенные в этом его генералы без возражений отправились в Россию.
На самом деле Гитлер был негодный психолог. Как военный он еще что-то мог, но он не понимал, что советско-финская война не пример, для русского солдата она была не понятна, финны на Россию не нападали, с чего ж на них ополчились? С немцами было другое — это они напали на Россию, целовались-обнимались, а уехав из Москвы, тут же подняли самолеты бомбить Россию. Так поступать нельзя, Россия была пятнадцатой страной для Гитлера, но первой страной, с которой началась совсем другая война.
Ключевую роль в плане «Барбаросса» играл Ленинград. Что такое этот город, они представляют плохо, считали, например, что в Ленинграде полтора-два миллиона жителей, на самом деле там было намного больше, а с учетом беженцев из пригородов тем более. Гитлер требует взорвать этот город, не представляя, что это то же самое, что взорвать Альпы.
В конце июля Гальдер опять пробует убедить фюрера, что основной удар надо сосредоточить не на Ленинграде, а на Москве. Но Москва Гитлера не интересует, все его внимание направлено к Ленинграду, Гальдер продолжает настаивать. На тридцать пятый день войны Гальдеру удается переубедить Гитлера, решено город не захватывать, а лишь окружить. Но через несколько дней Гитлер возвращается к своему плану — сперва Ленинград. Что-то его влечет к этой цели. Приказывает направить на Ленинград еще один авиакорпус.
Вот почему так участились бомбежки города. С тяжелым урчанием пролетали над нашими окопами бомбардировщики. В бессильной злобе мы палили по ним из всех винтовок. Они плыли, не обращая внимания на нашу стрельбу, и вскоре со стороны города начинался частый стук зениток, а затем доносилось глухое уханье бомбежки. Иногда к нам доходило содрогание земли.
Судьба ни одного города не вызывала столько споров, как военная судьба Ленинграда.
В тот же знойный день, 30 июля 1941 года, в Кремле Жуков пытался убедить Сталина сдать без боя Киев и увести войска Юго-Западного фронта. Сталин назвал этот план чепухой и тут же снял его с должности начальника Генерального штаба. Сталин не позволял никому оспаривать свое мнение. То и дело подвертывалось сопоставление обоих главнокомандующих, их поведение порой совпадало до странности, но и расходилось поучительно.
Военные дневники немцев почти ничего не говорят о солдатской жизни, о происшествиях. Только иногда проскакивает что-то неожиданное. Так, например, в начале августа 1941 года упоминается, что группа советских танков с экипажами перешла на сторону немцев. Ничего подобного я не слыхал. Зато тут же Гальдер признается, что план блицкрига сорван, в ротах осталось всего сорок-пятьдесят солдат, русские, оказывается, сопротивляются отчаянно. Это лучшая похвала нам. Удивительно, как спустя десятилетия оживает прежнее солдатское чувство.
Жизнь моя — дуновение, повторяю я слова Иова, и она не возвратится, как не может возвратиться назад облако, листок дерева.
* * *Вдруг где-то в глубине памяти послышалась песня:
Зачем-зачем вы слово дали,
Когда не можете любить.
Наверно, вы про то не знали,
Что я могу себя сгубить.
Это когда-то пела мама. Я услышал ее высокий нежный голос, память вдруг, спустя восемьдесят лет, почему-то вытолкнула на поверхность и этот романс, и мелодию, а главное, ее саму, поющую…
* * *Легкой жизни я просил у Бога:
Посмотри, как тягостно кругом.
Бог ответил: подожди немного,
Ты меня попросишь о другом.
Вот и дожил, не длинна дорога,
Тяжелее груз и тоньше нить.
Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.
Лишь недавно узнал, что автор — Иван Тхоржевский, эмигрант. Правда приведенная редакция слегка отличается от напечатанной в книге И. И. Тхоржевского «Последний Петербург», изданной у нас в 1999 году его племянником, писателем Сергеем Тхоржевским.
* * *Выросло поколение, которое не мечтало о коммунизме, которое вообще не думает о будущем обществе. О себе — да. О новой машине, как больше получать, как забраться повыше.
* * *Открыли курсы патриотов. Для пламенных стипендия повышенная.
* * *Личность академика Леонтовича была окружена легендами. Он отличался яростной нетерпимостью ко всякого рода непорядочности. Мог не подать руки. Мог публично отчитать. Этика его была безупречна. Но тут же с некоторой мудрой самоиронией мог заметить: «Справедливость — это удовлетворенная зависть».
* * *Л. Д. Ландау делил науки на четыре категории:
1. Науки естественные (физика, химия, биология)
2. Науки неестественные (история, лингвистика и пр.)
3. Науки противоестественные (философия и т. п.)
4. Науки сверхъестественные (теософия, астрология, богословие, оккультные науки).
* * *В 2010 году в Комарове наша вполне респектабельная дача стала превращаться в скромную избушку, еще год-два, и она станет халупой. Не ветшая, не дряхлея. Ее стали окружать шикарные большие сооружения, и ее скромность начинает выглядеть убогостью. Комарово становится поселком состоятельных, богатых людей. Остаются воспоминания, легенды, само же интеллигентное наполнение исчезло.
* * *У нас умирают как-то наспех, на ходу. Раньше причащались. Чувствовали приближение смерти. Разглядывали прожитую жизнь. Толстой в дневнике рассказывает о крестьянине — умирал с удовольствием, вспоминая, сколько он наработал: «Редко кому удается столько». Две недели умирал. Уходил удовлетворенный.
* * *— Живи мы в нормальной европейской стране со свободой выезда, со свободой печататься где угодно, у нас было бы куда больше нобелевских лауреатов. В физике — и Я. Зельдович, и Н. Вавилов, и В. Фок, и И. Тамм. А в литературе и Ахматова, и Мандельштам, и Булгаков, возможно Паустовский. Думаю, могли бы претендовать и Б. Ахмадулина, и Е. Евтушенко.
Подумав, он сказал:
— Так-то оно так. Но были бы при этом Булгаков и Мандельштам теми, кем они стали?
* * *18 декабря 1709 года родилась Елизавета Петровна, будущая царица России. Точнее — русская императрица. Дочь Петра и Екатерины Первой. Наполовину русская. Петр был последний русский царь, дальше пошли немцы. О дате я узнал случайно. В наших календарях нынче таких юбилеев не отмечают. 300-летие — ведь это юбилей, да еще какой!
Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.
В нашей монархической галерее она действительно помнится как «веселая царица». Строгие немцы, немки, работяги, чиновные служаки, венценосные ревнители своей славы, они вели и наслаждались жизнью-то украдкой, «делу время, потехе час», угрюмо старались над Россией. А эта? Наряды, балы, романы, и, между прочим, кой-чего успевала! К примеру, основала Московский университет, в Питере — Академию художеств. Украсила столицу гранитными набережными, Смольным собором по проекту Растрелли — самым, на мой взгляд, красивым собором России.
Оглянулся я и обнаружил, что нигде и никто не собирается отмечать юбилей Елизаветы. 300 лет — не шуточки. Дочь Петра. Красавица. Как же так? Спросил в мэрии, спросил у губернаторши нашей В. И. Матвиенко. «Какая Елизавета? Что за юбилей? Никаких указаний нет. Чего это будем выпендриваться? Нет, ни в коем случае».
А давайте мы сами. Без указаний. Подговорил Николая Бурова, директора Смольного, Исаакиевского и прочих соборов. Человек легкий, заводной. Согласился. И 18 декабря 2009 года в Смольном соборе состоялось. Вступительное слово — Н. Буров. Затем хор собора исполнил кантату XVIII века. Какую, не знаю, но пели хорошо. После них была прочитана ода Сумарокова, обращенная к императрице Елизавете Петровне. Между прочим, поэтически весьма даже. Выступил и я. Смольный собор внутри чисто белый, никаких росписей. Без алтаря, иконостасов. Строгая белизна делает его воздушно-легким. Я говорил не о Елизавете Петровне, а о нашей памяти, о благодарности, о том, как мы охотно забываем плохое и хорошее без особого различия. Когда-то я думал, что хорошее, доброе забыть нельзя, поэтому оно прочно остается в нашей душе. Ничего подобного, и оно подвержено забвению.