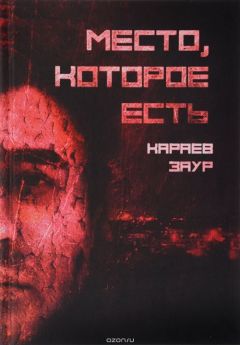Феликс Кандель - Шёл старый еврей по Новому Арбату...
Ах, христиане!.. Вы ищете в человеке иудея, нет, ищите в иудее человека‚ и вы без сомнения его найдете!..
Клянусь‚ что иудей‚ сохраняющий чистым образом свою религию‚ не может быть злым человеком‚ ниже – худым гражданином!!!..
Книга Неваховича завершалась такими словами: "Тако вопияла печальная дщерь Иудейская‚ отирала слезы‚ воздыхала и была еще неутешима".
Суд в Венеции постановил: Шейлок – под угрозой жестокого наказания – обязан немедленно принять христианство. Лейба Невахович нашел добровольный способ "утешиться": перешел в лютеранство и стал именоваться "губернский секретарь Лев Николаев сын Невахович".
Этим теперь никого не удивишь, и об этом – достаточно.
Сижу в приемной у врача…
…разглядываю полку с книгами, которые приносят пациенты.
Помечено к сведению желающих: "Можете взять любую и не возвращать".
Обрадовался. Поставил на полку свое творение, переведенное на иврит, стал поглядывать в каждое посещение.
А оно стоит себе и стоит, а его не берут и не берут…
Захожу теперь в магазин, вижу стеллажи с неисчислимыми книгами, брови насупливаю горестно:
– Зачем столько? Ну, зачем?.. Для чего новые сочинять, когда прежние еще не прочитаны?
Брат написал: "Рады, что вам досталось столько старых и кому-то ненужных российских книг. Будем надеяться, ваши внуки тоже вызовут лифт, сами погрузят и вздохнут облегченно, что у них эти книги забрали, так как ни русского языка, ни литературы‚ естественно‚ знать не будут".
А ведь становились когда-то очереди‚ со списками‚ милицией и перекличкой в семь утра. Подписывали всё подряд, менялись, забивали шкафы разноцветными корешками: мы не прочитаем, дети прочитают.
Книги уносили из магазинов, как драгоценную добычу. Книгами заполняли шкафы, полки и антресоли. Книги везли на таможни: дети не прочитали, внуки прочитают. А у внуков сложности с русским языком; внуки листают – если, конечно, листают – иные страницы на иных языках. Нечитаные книги из прежней жизни встали немым укором в странах и континентах.
Звонят в книжный магазин:
– Собрания сочинений не нужны?
– Какие собрания?
– Элиза Ожешко, Алоис Ирасек, Ромен Роллан, тридцатитомный Диккенс…
Прерывают:
– Не нужны.
– Так отдадим. Забесплатно. Сами и привезем. Анна Зегерс, Болеслав Прус, Жорж Занд, Леся Украинка, Всемирная литература – сто томов из двухсот…
– У нас есть.
– Будут еще. Анна Зегерс, Болеслав Прус, Жорж Занд…
– Еще нам не надо.
Звонят в библиотеку.
Повторяют список книг.
– Мы подумаем, – отвечают.
– Долго будете думать?
– Не долго. У нас нет места.
– Учтите, – угрожают. – С сего дня считаем книги заложниками. Пока их не заберете, каждый день будем предавать смерти по одной, в мусорном баке…
Смешно?
Не очень.
Огорчительно?
Не то слово.
Лежит у меня на полке – не помещается стоймя – том Вавилонского Талмуда крупных размеров.
Житомир, типография братьев Шапиро, 1859 год.
Братья Шапиро – это Ханина Липа, Иегошуа Хешель и Арье Лейб, внуки рабби Моше Шапиро, правнуки рабби Пинхаса Шапиро из Корца.
На первых листах Талмуда красуются печати владельцев, по которым прослеживается судьба книги. "Михель Лейзеров Шалыто" – "Библиотека Центрального антирелигиозного музея" – "Проверено, 1935 г." – "Библиотека Академии наук СССР".
Эту книгу обнаружили на московской улице, возле помойки: кто-то вынес из дома за ненадобностью. Талмуд попал к брату, а после многих проволочек – в обход таможни и мусорных баков – оказался у меня.
Стоят на полке и шестнадцать одинаковых томов.
Шестнадцать томов густого, темно-коричневого цвета с золотым тиснением на переплете.
Еврейская энциклопедия, Брокгауз и Эфрон.
Первый том вышел в 1908 году. Последний – в 1913-ом. Будто догадывались, что вскоре всё закончится, и поторопились, завершили издание, разослали подписчикам и в магазины.
Я долго за ней охотился, за этой энциклопедией.
Подробности выпали из памяти за давностью времен, а потому процитирую самого себя, тогдашнего.
Она лежала на антресолях, в коридоре, новенькая, аккуратно обернутая в плотную бумагу, будто только что из типографии: Санкт-Петербург, Прачешный переулок, дом 6.
Я пришел к ним, и меня окружила дружная семья: папа-инженер, мама-врач, дети-школьники.
Кто-то ее читал, эту еврейскую энциклопедию, в этой еврейской семье. Переплетал, подчеркивал, ставил закладки по страницам, сохранившиеся по сей день. Рука не поднималась лишить их семейной памяти, и я заколебался во вред себе.
– Зачем продаете? – спросил. – Неужто не жалко?
– Деньги нужны, – ответил папа.
– Телевизор хотим поменять, – ответила мама.
– На цветной, – ответили дети-школьники.
Я купил ее, это энциклопедию, в благополучной еврейской семье, где для полного счастья недоставало лишь цветного телевизора.
Не помню, кто написал и когда, но вот они, те слова: "Веревка опускается для тебя с Небес. Можешь подняться по ней за облака, можешь на ней повеситься".
Лежит на полке Талмуд братьев Шапиро, избежавший мусорного бака. Стоят шестнадцать томов темно-коричневого цвета, которые обменяли на цветной телевизор. И первый из них начинается с литографии 1842 года "Общий вид Иерусалима с северной стороны".
Из моего окна – иной вид с северной стороны.
Иной вид с балкона.
Но город – вот чудо – он тот же и он другой.
Он твой и он сам по себе.
Встретил – уже здесь – медсестру из Голландии. Христианку. Был ей Глас указующий:
– Жить тебе в Святом городе.
Переехала. Стала ухаживать за больными, очень больными детьми, которым не встать с постели.
Спросил:
– Как вам тут?
Ответила:
– Трудно, очень трудно. Иерусалим держит в напряжении. Постоянно. Как требует чего-то
– Так переезжайте. В Галилею, к примеру. Там тоже больные дети.
Запнулась. Сказала:
– Город не отпускает…
Меня не отпускает тоже.
Некий путешественник…
…написал из Италии в конце девятнадцатого века:
"Недавно один еврей три дня подряд водил меня по Генуе, скрывая свое происхождение, но на вокзале не выдержал и заговорил:
– А не бывали ли вы, пане, часом в Шполе?
Случилось так, что я мог его порадовать: я бывал в этом богозабытом и прегнусном местечке, имя которому – Шпола. Мой попутчик так и затрепетал, так и засиял:
– Уй! Когда я уехал из Шполы в Америку и застрял в этой поганой Генуе из-за чахотки, у нас хотели мостить базар.
– И теперь еще хотят, голубчик.
– И теперь хотят? Уй, уй, уй! Если бы я имел двести лир, посмотрел бы я на мою Шполу…
Он улыбался, но в глазах стояли крупные светлые слезы…"
Четыре года подряд нас не выпускали в Израиль, и мы редактировали самиздатовский журнал "Тарбут" – "Культура".
Я и Биньямин Фаин, для меня – Веня.
В один из дней, поздно вечером, в дверь позвонили.
Стоял на лестнице Илья Константиновский, писатель, которого прежде не знал.
– Погуляем? – предложил он, чтобы избежать подслушивания, которого, скорее всего, не было.
– Погуляем.
Ходили по дальним улицам. Разговаривали. Он спрашивал о журнале, я отвечал. Скрывать было нечего: на первом листе стояли наши имена с адресами – мои и Файна.
Вскоре Константиновский пришел опять. Снова ходили под фонарями, и, наконец, он передал мне рукопись.
– Напечатаете?
Напечатали.
Так увидела свет повесть Бориса Ямпольского.
"Табор".
"Будто тысяча лет прошло, будто всё было на другой планете, и долетел только холодный, мертвый свет той старой, обжитой, уютной планеты, где было столько кислорода… Когда-то была жизнь семейная, родовая, жизнь клана, с родственниками – близкими и далекими, зятьями, кузинами, двоюродными и троюродными братьями по всем улицам. Ничего этого нет и в помине…"
Я встретился с ним в те дни, когда умер Хрущев; посторонних не подпускали к Новодевичьему кладбищу, но Ямпольский совершил невозможное. Через кордоны милиции и агентов проник на оцепленную территорию, стоял рядом с могилой, – он должен был всё рассмотреть, и он рассмотрел.
Это был видный мужчина, привлекавший внимание, с глазами интересующимися, я бы сказал, профессионально интересующимися. Который наблюдал, сравнивал, оценивал, задавал вопросы: писатель Борис Ямпольский.
Его первая, самая первая повесть "Ярмарка" тоже была о евреях, которые жили в местечке под названием Иерусалимка. И в той повести такие строки:
"Потомки Иакова, десятки крикливых семей, цепко держались за жизнь, пережили несчастья, погромы, пожары. И как бы в насмешку над судьбой, наперекор природе, в семьях евреев, чахоточных и налитых водянкой, рождались дети, прекрасные лицом… с черными глазами, полными огня, страсти и печали, которые слышали, как лист растет, и движутся тучи, и в душе которых жила могучая гармония. Воины, поэты, математики, скрипачи… Я – горячая капля крови этого рода…"