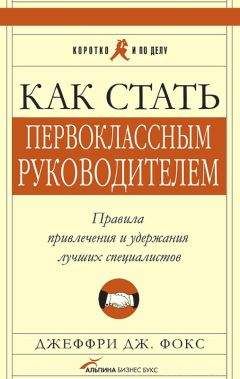Евгений Шкловский - Рассказы
В общем, поразительно, почти неправдоподобно, а главное – недуги ее и в самом деле стали мало-помалу исчезать, один за другим, один за другим… Будто и не было. Похудела, наверно, килограммов на десять, кожа натянулась, одежда стала свободней, кое-что даже ушивать пришлось. Самой не верилось.
И что вы думаете? Врач, тот самый, который говорил, что нужно срочно делать операцию, долго вертел перед собой рентгеновский снимок, поднимал, опускал, смотрел на свет, колдовал над бумажками с результатами анализов, прежними и теперешними, приятный такой пожилой лысоватый врач, доктор наук, с немного испуганными глазами.
В лице – изумление:
– Невероятно…
– Что "невероятно"? – поинтересовалась.
– Я ничего не вижу.
Не находил он ничего – из того, прежнего. (Не было прежнего!)
Наверно, так бы и не поверил, если бы все эти анализы не были сделаны в его же медицинском центре. Она же испытала к нему просто-таки необъятную благодарность – за это "невероятно".
Внутри – мягкое всепримиряющее тепло и… покой, тот самый, благодатный.
"Вы все поняли?" – это онспросил, когда передавала ему конверт с деньгами.
Разумеется, она поняла.
Только Закон…
Теперь она жила по Закону, словно пробудившись или, наоборот, уснув.
Тихо ей было внутри себя, даже с матерью могла разговаривать не раздражаясь. Мать, правда, с ума начинала сходить от такого ее загадочного буддийского спокойствия, однако все ее попытки вывести дочь из равновесия терпели фиаско. Как бы ни распекала ее, в чем бы ни упрекала и ни обвиняла – все мимо. Мать терялась и неожиданно спрашивала, почти участливо: ты как? И она радостно отвечала: отлично, а что?
Сама не понимала, как так получалось, разве что вдруг волной восторг
– от собственной неуязвимости. А что восторг? Восторг – не злорадство. Восторг – чувство чистое и не агрессивное, в нем не столько огонь, сколько свет, искрящийся, будто снег на солнце, холодный свет, ледяные торосы и северное заполярное сияние. Тишина и покой.
Не пронять ее.
Однажды случайно столкнулась с мужем. Бывшим. И не где-нибудь – в театре, на премьере. Тот, зная ее нрав, похоже, приготовился к паническому бегству, тем более что был с этой своей новой (ничего особенного), но она даже в лице не изменилась – настолько в ней уже утвердилось. Воссияло. Так могли бы смотреть на камень или птицу – безразлично и даже чуть снисходительно.
Скользнула взглядом словно по пустому месту и – мимо, без всякой неприязни или тем более ненависти. Заполярный восторг – светло, чисто…
Свет сильней огня, вот что. А свет – от Закона.
А они-то все думали, что вспыхнет и испепелит…
Правда, не всегда так. Случались и спады, один шаг до… И ступни ни горячи, ни холодны, и по квартире ходила в обычных домашних тапочках на войлочной подошве, пусть и на босу ногу.
Собственно, если рассматривать ситуацию объективно, жизнь ее, которая в юности обещала быть если не счастливой, то, во всяком случае, радостной и полной разнообразными приятными вещами, несмотря на все наезды матери, – что эта жизнь теперь?
Онсказал: испытание…
И сама, впрочем, догадывалась.
Ну и ладно… главное – чтоб здоровье! А молодости, понятно, все равно не вернешь. И пусть всем будет хорошо, пусть!
Кому – всем?
А всем поголовно – от матери в первую очередь до бывшего мужа с его новой. Всем-всем. И вообще…
Только так.
Поверила ему…
Закон есть закон.
И отлично. А егоона так теперь и воспринимала – как представителя
Закона. Вроде гуру, ну да. Учитель и Наставник, как бы отец или старший брат: спокойствие и безопасность.
На сеансах такой и был: в себе, отстраненный, сосредоточенный, властный, чуть вполоборота к ней – как бы связывал ее с чем-то, переправлял на нее поток исцеляющей светоносной энергии.
Эта его отстраненность даже досаду иногда вызывала. Она-то, поверив, все про себя рассказала: и про мужа, и про отношения с матерью, и про все-все (жгущее)… Молча выслушивал, кивал головой, сам говорил мало, в основном на вопросы – коротко, с явной неохотой.
Выходило, значит, так: негативная энергия ее выжигает, но она-то скорей всего сама ни при чем, возможно, родовое, генетическое, уходящее корнями в непроглядную толщу, где, собственно, и зарождается… что зарождается?.. ну вот огонь. Оттого и несет ее, и жжет, и обугливает…
Про огонь понятно. Про Закон тоже. И про "нельзя".
Во время последнего сеанса вдруг положил руку (широкое, густо поросшее темным волосом запястье) на ее – будто зверушку маленькую поймал. Как бы проверял температуру ее тела – есть ли огонь? Огня не было, пока он так держал, в душе спокойно и холодно, а он все не снимал и не снимал руку, и слова, которые произносил, не сразу доходили до сознания: женщина, то есть она интересует его именно как женщина, в конце концов, он тоже живой человек, а в ней – нераскрытая женская сила, задавленная. Огонь, он чувствует, огонь.
Как и в нем самом. Влечение – тоже огненной природы, но подавлять его – ошибка, да, ошибка…
И еще что-то, более откровенное, с жаром в лице и в голосе, ладонь все горячей, все крепче зажим.
Короче, она нужна ему.
"А как же Закон?" – спросила растерянно. И руку попыталась высвободить.
Тщетно.
"Закон? А что Закон? – пробормотал, склоняясь к ней низко. – У каждого свой Закон".
Крепко ее держал, а теперь еще и к себе, рукой тяжело обвивая, притягивал, ближе и ближе. Не давал ускользнуть.
"Ничего, – словно в бреду шептал, обняв властно. – Все у нас будет хорошо, все получится".
Как это "свой"? Что получится?
Тут-то и взорвалось в ней, полыхнуло, раскаленный свинец по жилам – как прежде… Боль не боль, ярость не ярость – что-то отчаянное…
Земля пламенела.
А ведь нельзя ей было!
ИЗ-ПОД КОЗЫРЬКА
Нет, не дает покоя тот его взгляд. И зачем он так?
Собственно, заехал он, чтобы отвезти меня в аэропорт на своем красном "пежо" – в бейсболке, в какой я его ни разу не видел, в слегка продранных джинсах и видавшем виды свитере, эдакий несколько замасленный, спортивный, студенческий вид, сумочка напоясная для прав и прочей мелочевки на слегка выпирающем животике. Не привык я к такому его облику – обычно костюм, галстук, вольность – расстегнутый воротничок белоснежной рубашки плюс расслабленный узел галстука. А тут – что-то из давних времен, забытое.
Я уезжал, а он оставался – здесь, в этой стране, о которой мы когда-то могли только мечтать. Тихие туманные утра на Сене, желтые расплывчатые огни фонарей и неоновая реклама ночью, мелодии аккордеона… Мы любили этот волшебный город какой-то безнадежной любовью, и вот теперь для него он – вторая родина, а я, залетный гость, возвращался к себе.
Мы не виделись больше десяти лет, но, как оказалось, мало что изменилось – он все помнил, и когда речь заходила о ком-то из друзей или однокурсников, всплывали самые неожиданные подробности – как кто-то упал в Москву-реку и его потом долго вылавливали, ноябрь, холодно, для согрева вливали водку из милой студенческому сердцу чекушки, верное лекарство, и – ничего, обошлось, еще передавали друг другу запретные стихи, на желтых, истрепавшихся по краям, истончившихся от многих рук листках бумаги, с блеклыми полустершимися буквами, а кто-то, похоже, стукнул, и пришлось что-то плести у декана, который смотрел искоса хитроватыми умными глазами из-за толстых стекол очков – непонятно было, чего он хочет: действительно ли узнать правду или чтобы придумали получше отговорку, поскольку сам все прекрасно понимал и, не исключено, даже сочувствовал. А еще по пьяной лавочке красным фломастером писали большими буквами на стенах чьей-то хорошо обставленной квартиры, прямо на дорогих обоях, "мене, текел, фарес", помнишь, и сыну хозяев квартиры потом точно выпал "текел", он ходил обиженный и ни с кем не разговаривал. А еще ездили на юг, и соседка по купе, пожилая седовласая женщина из Сухуми, пригласила к себе переночевать, а утром учила варить крепчайший кофе по-турецки, с пенкой, от которого сердце потом пламенело и билось о грудную клетку…
Аркадий все помнил, словно и не уезжал, словно его жизнь не поменялась кардинально, – а ведь крепко намыкался здесь поначалу: брался за что ни попадя, квартиры ремонтировал, посуду мыл в ресторане и даже бебиситтерствовал, пока наконец не получил вид на жительство; вскоре его неожиданно взяли в довольно крупную фирму, где нельзя было появляться без пиджака и галстука, и тут он уже начал быстро подниматься – аж до системного администратора, ездил пока на не новом, принадлежавшем фирме "пежо" – и мы с ним закусывали копченой курицей в Фонтенбло, в Версале возле домика Дюма близ Марли-ле-Руа…
Да, это была Франция, Париж, где он теперь действительно чувствовал себя как дома, ездил отдыхать на Лазурный берег, расплачивался карточкой, попивал в свое удовольствие красненькое и разговаривал по-французски как записной француз, почти без акцента.