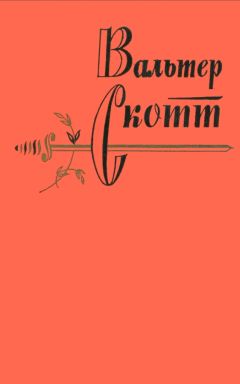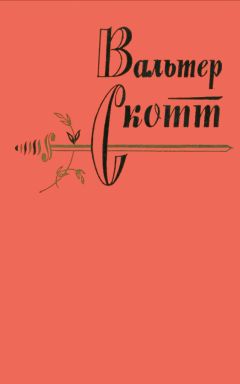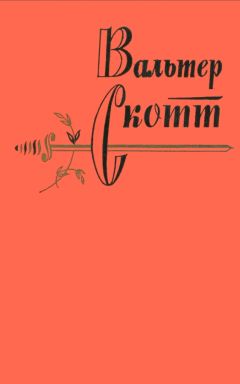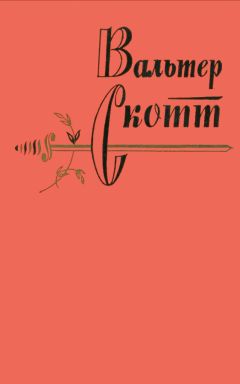Стеф Пенни - Нежность волков
Дрожь утихла. Теперь ясно, что, попав в болото, он подхватил лихорадку. Он перешел неторопливый торфянистый ручей; вода была так спокойна, что на ней переливались маслянистые радуги, — как вдруг поскользнулся и упал в трясину. С ужасом обнаружив, что его стремительно засасывает чавкающая жижа, он принялся хвататься за тростник и распластался грудью на поверхности, чтобы замедлить погружение. Он уже видел, как его затягивает с головой, как наполняются грязью рот и нос, как забивается горло. Он закричал — скорее от отчаяния, нежели призывая помощь, — какой в этом смысл, если и так все ясно до боли. Ему казалось, что он выкарабкивался долгие часы, а затем отползал по темно-каштановому берегу на заросший черникой островок. Черничник — это хорошо, надежно; кусты уходят корнями в твердую каменистую почву. Он упал навзничь, совершенно измученный и опустошенный. Что-то скверное случилось с левой ногой: когда он попытался встать, она подогнулась, и его стошнило от резкой боли в колене, хотя тошнить было нечем. Он толком не ел уже три дня — или больше? Он не помнит. Еще он не помнит, как сюда попал и где находится. Он просыпался в белой комнате и спрашивал себя, так ли выглядит смерть: безликая белая комната, где порхают ангелы, щебечущие на неведомых языках.
Потом лихорадка утихла, и он осознал, что комната вовсе не безлика, ангелы же обернулись вполне земными и обычными существами, хотя он по-прежнему их не понимал.
К нему склонялись две женщины, кормили его и делали такие вещи, при мысли о которых он краснел. Хотя лет им было не меньше, чем его матери, и на него они смотрели как на одного из собственных детей. Они проворны и серьезны: обтирают его, причесывают, расправляют простыни. Вчера — ему кажется, это было вчера — в комнату вошел мужчина и поговорил с одной из женщин, глядя на него сверху вниз, отчего выглядел очень высоким. Мужчина казался ровесником отца; у него была русая окладистая борода, очень старомодная, и козлиные глаза навыкате.
— Étes-vous Fnançais?[6] — спросил он с необычным акцентом.
Фрэнсис сперва насторожился, услышав из уст незнакомца собственное имя, но тут же разобрал французские слова. Он задумался, что сказать. Он так многого не знает. Мужчина повернулся к женщине и проговорил что-то на их гортанном языке:
— Анк-лиски?
Фрэнсис уставился на мужчину и решил вообще ничего не говорить. Наверное, так будет лучше всего.
Мужчина и женщина переглянулись. Мужчина пожал плечами. А потом сложил руки вместе и заговорил.
Минуту спустя Фрэнсис сообразил, что он молится. Женщина тоже молилась, только не говорила сама, а слушала мужчину. Одежда у них была совсем простая — грубая ткань черного, белого и серого цветов, словно их небо.
Только недавно — час назад или около того — он начал припоминать, что случилось: он вспомнил, как брел милю за милей по берегам прорезающей лес реки, дальше, чем забирался когда-либо в жизни, шагал и шагал по следу этого человека. Он больше не видел его с той ночи в хижине, так что приходилось до предела напрягать свои навыки следопыта, чтобы не сбиться со следа. Но местность проявила к нему милосердие. Всякий раз, когда казалось, что он свернул не туда — после долгих блужданий, бесплодных поисков, окончательно уверившись, что навсегда упустил преследуемого, — он вдруг натыкался на след: еле заметный отпечаток мокасина в листве, растопленный мочой иней в ямке. Он находил следы человека и скудные признаки его в спешке затушенных костров. Он забыл, когда ел в последний раз. Он не знал никого, способного передвигаться с такой скоростью.
Фрэнсис лишь однажды решился развести огонь и почти не спал из страха, что тот человек почует слежку и найдет его. Но ничего не произошло. Он помнил, что не следует подходить слишком близко, и остерегался возможных ловушек. Кончилось тем, что осторожность его и сгубила. На четвертый день он потерял след. Чаща уступила место возвышенности, сменившейся к северо-западу пустынным безлесным пейзажем — болотистым, поросшим низким кустарником плато, где трясина сильно замедляла преследование и волчья куртка не спасала от ледяного пронизывающего ветра. Он медленно шел, постоянно опасаясь, что заметен тут издалека. Через несколько часов он едва не упал в другую речку, поуже, извивающуюся в маслянистых илистых берегах. Вода была мутная, и он никак не мог отыскать брод. А затем он барахтался, завязнув в трясине. Здесь он впервые испугался по-настоящему. Он, конечно, все время боялся, но только сейчас осознал, что эта земля вцепилась в него мертвой хваткой и доведет до смерти, так что никто и костей не отыщет. Обглоданные и выцветшие, они будут вечно лежать под этим хмурым небом, как окружающие его скелеты оленей. Завязнув по грудь, он боролся до темноты. Он даже кричал, на случай, если тот человек недалеко — смерть от его руки хотя бы будет быстрой. По крайней мере, от руки человека. Но каким-то образом, потихоньку, он выбрался. И здесь силы вовсе оставили его.
В конце концов, ничего не изменилось: он побежден этой рекой, измучен, обессилен и замерз. Он потерпел неудачу.
Ему кажется, что уже за полдень: около часа назад он съел немного супа. А потом сгорал со стыда, когда воспользовался подкладным судном с помощью одной из женщин, темноволосой. Он старался не встречаться с ней взглядом, а она только смеялась, будто находила его очень забавным, и, похоже, не испытывала ни малейшего смущения.
Он нигде не видит своей одежды, но не уверен, стоит ли спрашивать, а если спросить, то как? Он мог бы спросить мужчину, если тот вернется. Но почему-то ему кажется, что не стоит говорить ни на английском, ни на французском. Лучше вообще не говорить. Если молчать, то и спрашивать ни о чем не будут. Он сожалеет о своей неудаче, но как бы на расстоянии — он сделал все, что мог. Причины, по которым он пустился в путь, кажутся такими далекими, будто из другого мира. Тягостного мира, совсем не такого, куда бы хотелось вернуться. Но куда острее беспокоит местонахождение костяной таблички.
Когда возвращается одна из женщин — та, у которой сухие белокурые волосы и громкий смех, — он пробует говорить жестами. Она напоминает ему мать Иды — такая же приземленно-практичная. Пока она хлопочет вокруг него, подворачивая одеяла и прикладывая ладонь ко лбу, он ловит ее взгляд, жестами будто бы надевает куртку и в немом вопросе возводит руки. Она понимает, дергая в ответ подол своей юбки и разражаясь потоком корявых слов. Он улыбается, надеясь привлечь ее на свою сторону. Затем пишет пальцем на ладони и рисует в воздухе табличку. Она хмурит брови, а затем, кажется, соображает, что он имеет в виду. Взглянув на него с неодобрением, она все же выходит из комнаты.
Однажды вечером, несколько месяцев назад, Лоран вытащил из тайника костяную пластинку (он был пьян) и показал ее Фрэнсису, после чего они вместе изучали маленькие фигурки из палочек и значки, похожие на письмена. Лоран решил, будто Фрэнсис сможет понять, что это такое. Фрэнсис припомнил школу и египетские иероглифы, древнегреческий язык и картинки в материнских книгах, но так и не обнаружил ничего, соответствующего этим знакам. Разве что попробовать определить происхождение этих знаков по человечкам из палочек, расставленным по краям. Лоран сказал, что получил кость у какого-то торговца в Штатах, а еще он сказал, будто один джентльмен в Торонто готов отвалить за нее кучу денег. Они посмеялись причудам богачей. Потом он сказал, что Фрэнсис может забрать кость себе. Фрэнсис отказался, не желая иметь дело с тем, чего не может понять. Кто знает, может, это проклятие? Но ведь Лоран предлагал, так что, когда он взял ее, это, по сути, не было воровством. Что же до других вещей, то ему пришлось взять их, чтобы выжить. Он бы и ружье взял, если б увидел. Хотя, вторя мальчишкам, которых ему долгие годы приходилось терпеть в деревенской школе, можно спросить, что бы он стал с ним делать? Ты не можешь себя заставить даже в кролика выстрелить.
Когда он снова открывает глаза, у его кровати сидит бородатый мужчина. Тот откладывает книгу — читал в ожидании, когда проснется больной. Фрэнсис видит название книги, но слова кажутся странным нагромождением согласных. Мужчина улыбается ему. У него бесцветные зубы, что особенно заметно в окружении красных губ. Фрэнсис отворачивается, но, должно быть, что-то смягчается в его лице, так как мужчина прямо сияет от удовольствия и похлопывает его по плечу. Он начинает говорить и снова спрашивает, не англичанин ли Фрэнсис или, может, француз. Фрэнсису приходит в голову, что нашедшие его люди могли видеть человека, которого он преследовал. Неизвестно, может, он даже здесь? Можно отказываться говорить, но тогда придется оставить надежду. Он понимает, к своему собственному удивлению, что пока не готов оставить надежду.
Он облизывает пересохшие губы и хрипит: