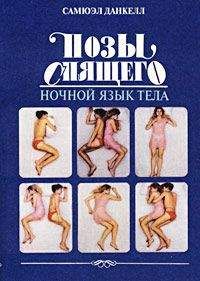Эмиль Айзенштрак - Диспансер: Страсти и покаяния главного врача
В это время я как раз отделяю мочеточник, который плотно спаялся с нижней поверхностью опухоли. По миллиметру, по сантиметру, во тьме. Пот на лбу, на спине, по ногам, напряжение адское. Мочеточник отделен. Еще глубже опухоль припаялась к внебрюшинной части прямой кишки. Здесь только на ощупь. Ножницы нужны, нормальные ножницы! Режу погаными коротышками. Заставляю одну ассистентку надеть резиновую перчатку и засунуть палец больной в прямую кишку. Своим пальцем нащупываю со стороны брюха ее палец и режу по пальцу. И все время основаниями ножниц — широким, безобразным и опасным движением. Опухоль от прямой кишки все же отделил. Только больной хуже, скоро пять часов на столе с раскрытым животом. Давление падает, пульс частит. А крови на станции переливания НЕТ.
Почему нет крови на станции переливания крови? Я кричу куда-то в пространство, чтобы немедленно привезли, чтобы свои вены вскрыли и чтобы кровь была сей момент, немедленно! «Уже поехали», — говорят. А пока перелить нечего. Нельзя допустить кровотечения, ни в коем случае: потеряем больную. А место проклятое, кровоточивое — малый таз. Все, что было до сих пор, — не самое трудное. Вот теперь я подошел к ужасному. Опухоль впаялась в нижнюю стенку внутренней тазовой вены. Вена лежит в костном желобе, и если ее стенка надорвется — разрыв легко уйдет в глубину желоба, там не ушьешь. Впрочем, мне об этом и думать не надо. Опухоль почти у меня в руках, ассистенты успокоились, самого страшного они не видят. Тяжелый грубый булыжник висит на тонкой венозной стенке. Теперь булыжник освобожден сверху, и снизу, и сбоку. Одним случайным движением своим он может потянуть и надорвать вену. Но главная опасность — это я сам и мои поганые ножницы. Лезу пальцем впереди булыжника — в преисподнюю, во тьму, чтобы как-то выделить тупо передний полюс и чуть вытянуть опухоль на себя — из тьмы на свет. Так. Кажется, поддается, сдвигается. Что-то уже видно. И в это мгновение — жуткий хлюпающий звук: хлынула кровь из глубины малого таза. Кровотечение!!! Отчаянно кричат ассистенты, а я хватаю салфетку и туго запихиваю ее туда, в глубину, откуда течет. Давлю пальцем! Останавливаю, но это временно — пока давлю, пока салфетка там. А крови нет, заместить ее нечем.
Нужно обдумать, что делать, оценить обстановку, найти выход, какое-то решение. И тут мне становится ясно, что я в ловушке. Выхода нет никакого. Чтобы остановить кровотечение, нужно убрать опухоль, за ней ничего не видно. Откуда течет? А убрать ее невозможно. Границу между стенкой вены и проклятым булыжником не вижу. Это здесь наверху еще что-то видно. А там, глубже, во тьме? И ножницы-коротышки, и бранши не сходятся. Нежного, крошечного надреза не будет. Крах, умрет женщина.
Вихрем и воем несется в голове: «Зачем я это сделал? Куда залез!? Просили же не лезть. Доигрался, доумничался!». А кровь, хоть и не шибко, из-под зажатой салфетки подтекает. Заместить нечем, умирает молодая красивая женщина. Быстро надо найти лазейку, быстро — время уходит. Где щелка в ловушке? Какой ход шахматный? Хирургическое решение — быстрое, четкое, рискованное, любое! А его нет! НЕТ!
И тогда горячая тяжелая волна бьет изнутри в голову; подбородок запрокидывается, задирается голова через потолок — вверх, ввысь, и слова странные, незнакомые, вырываются из пораженной души: «Господи, укрепи мою руку! Дай разума мне! Дай!!!». И что-то дунуло Оттуда. Второе дыхание? Тело сухое и бодрое, мысль свежая, острая и глаза на кончиках пальцев. И абсолютная уверенность, что сейчас все сделаю, не знаю как, но я — хозяин положения, все ясно. И пошел быстро, легко. Выделяю вену из опухоли. Само идет! Гладко, чисто, как по лекалу. Все. Опухоль у меня на ладони. Кровотечение остановлено. Тут и кровь привезли. Совсем хорошо. Я им говорю: «Чего орали? Видите, все нормально кончилось». А те благоговеют. Тащат спирт (я сильно ругался, такие и пьют здорово). Только я не пью. Они опять рады.
Больная проснулась. Я наклоняюсь к ней и капаю слезами на ее лицо.
Среда.
Погиб заведующий урологическим отделением, кандидат медицинских наук. Сегодня мы его провожаем. Кузов машины накрыт ковром. Согнутая горем вдова, брат приехал, тоже хирург и очень похож на покойника (может, они были близнецами?), дети, родственники, много венков, большая процессия — врачи, медицинские сестры, пациенты. Покойному 52 года. Он был оптимистом (или старался казаться таким?). Встречая меня, он спрашивал с веселым вызовом: «Ну, как дела?» Я отвечал без особого восторга. «Неправильно отвечаете, — говорил он. — А ну, повторяйте за мной: Дела — у -нас — идут — хорошо! Повторили? Отлично! И так везде повторяйте, всегда!» И дружески прощался. Рука у него была крепкая. Историю его болезни можно пробить телеграфом: жалоба, комиссия, инфаркт, смерть. И все за четыре дня. Я иду рядом с Ниной Сергеевной Кагалян, она заведует станцией переливания. «Послушай, Нина, как же ты умудрилась не дать мне вчера кровь? Больная умирает на столе, а ты не даешь. Как это понять?» — «А кровь у нас была, — говорит она, — просто скорая не сработала, не отвезла вовремя». Я что-то кричу в ответ. На нас оглядываются…
Четверг.
Операционный день. На сегодня нужно назначить поменьше. Устал. Будет одна операция, небольшая, но скользкая. На глубине 12 см в прямой кишке злокачественный полип на ножке. Его нужно убрать через тубус ректоскопа. Санитарка заглядывает в кабинет: можно идти в операционную. Встаю из-за стола, делаю один шаг в сторону двери. А дверь открывается сама и заходят двое — мужчина и женщина. Они говорят: «Мы — комиссия, пришли расследовать анонимное письмо». Жалобно и жалко затряслось под ложечкой. Я же устал, это невозможно. Хочется закрыть глаза, улететь или забраться куда-нибудь в носок валенка, переждать, в клубочек. Читаю анонимку. Все ясно — пишет Баруха, обвиняет Пелагею Карповну, злобно, насмерть. Она мне обещала этого не делать. Полтора года прошло. Крепилась, удерживалась. И вот теперь лопнуло терпение. Так и начинается анонимка: «Нашему терпению пришел конец…» А дальше — подробности по аптеке, где Баруха сама в свое время работала, и характерные ее обороты, словечки, ход рассуждений и ненависть лютая хорошо созрела за полтора года. Ночами, наверное, бредила, муки своей врагини видела, сладко потягивалась. Им это заместо секса. Однако же и воспаление, и блевота вперемежку с фактами. И опять на мою голову. Ах, если бы они загрызли друг друга где-нибудь на улице, без моего участия.
Но в том и заключается Дьяволиада, что не только собственные твои скорпионы, но и сторонние кровососы будут клевать глаза друг другу не на расстоянии, не в удалении от тебя, а на собственном твоем солнечном сплетении, на твоем распоротом животе. И каждое движение их проклятых клювов — это твоя боль, твое страдание…
Впрочем, жалеть себя некогда. Надо действовать. Сначала разведка, информация, зондаж. Что за люди пришли ко мне? Одного знаю, как будто, лицо знакомое, где-то встречались. Ага, вспоминаю, да это же бывший начальник аптеки на поселке. Он очень свирепый ревизор. К тому же у него давний конфликт с управляющей головной аптекой Еленой Степановной Смирновой, которая нас снабжает, проверяет и по аптечной линии нами руководит. Вот и случай — вцепиться ей в глотку (предварительно перервав мою). Только нет, не все так просто. Еще есть одна деталька — существенная и мне на пользу. Лет 12 назад, когда Елена пошла походом на Петра Ивановича, меня как раз и направили его проверять. И я тогда ему сказал примерно так: «Петр Иванович, я в своей жизни ни на кого пакость не написал. Надеюсь так и умереть. Поэтому дай-ка ты мне свои самые положительные явления и факты — для протокола. Чтобы каждый увидел: на человека написали, ожидают его поношения, а он, напротив, — возвысился. И пропадет охота писать». А это и в моральном, и в материальном плане куда лучше взаимных поклепов: если предположить, что какой-то поклеп даже и вскроет безобразие (да их и без того навалом, и видно невооруженным глазом, безо всяких писем). Один поклеп сто безобразий перевесит — если грамотно посчитать. Изуродованные души, опустившиеся руки и цинизм до горизонта. И остановка, паралич в результате. И как потом поднять параличных от земли, чтобы двигались, мыслили, работали и даже мечтали — эти опустошенные?
И написал я тогда пышный положительный акт и, как в зеркале, отразил энтузиаста Петра Ивановича, который рыщет по окраинам и степям, собирает полезные травы, а в аптеке у него чистота и стенгазета в срок и по делу. И строг он, да справедлив, и все в таком роде. Сдал бумагу повыше, там его и прославили. Петр Иванович растрогался: «Ах, какой вы человек прекрасный, и как верно, объективно все подметили. Чего бы вам тоже хорошего сделать?» «Мне лично ничего не надо. А если хотите мне удовольствие доставить — поступайте как я. Пошлют вас ревизором — так вы и не свирепствуйте, не раздувайте пламя из искры, а наоборот, тушите, в пределах возможного, конечно, и чуточку сверх того. И чтоб у всех анонимщиков и жалобщиков после вас руки опустились». На том и расстались. Только не очень-то он меня послушался. Ревизовать, вскрывать и наказывать — это у него в натуре. Нутро, так сказать, исподнее. А что победит на этот раз — врожденное или приобретенное? Личная ко мне благодарность или генетический ревизор?