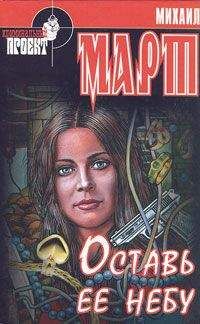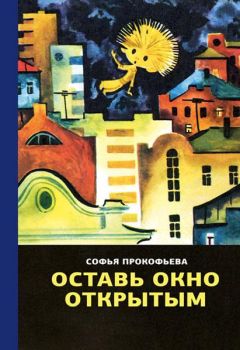Натали Саррот - Детство. "Золотые плоды"
Но когда обрушивается это «Потому что так не делают»... я будто... чуть не сказала... оглушена, раздавлена... этого можно было бы ожидать... но на самом деле меня охватила бессильная ярость... так бьешься головой о стенку, топаешь ногами... слепой, нелепый гнев, такой гнев вызывает в тебе предмет, о который ты больно стукнулся, хочется дать ему сдачи... мне не терпелось по нему ударить, избить его. Но отвечать ударом на ее «Потому что так не делают», обрушивая свое «А почему? Почему так не делают?». Нет, я не могла, мне недоставало храбрости...
— А в общем-то, если посмотреть со стороны, опасность была не так уж велика...
— Зато в самой Вере эти слова могли вызвать... безмолвную вспышку, яростное кипение, едкий дым, поток раскаленной лавы... нет, никогда я бы добровольно не осмелилась выпустить все это наружу, никогда бы не допустила, чтобы ее слуха достигло, пусть еле различимое, произнесенное шепотом, мое «А почему так не делают?».
Когда приходят друзья, отец преображается. Исчезает его замкнутость, он размякает, делается оживленным, он много говорит, он спорит, что-то вспоминает, рассказывает анекдоты, он развлекается сам и любит развлекать других. Все сидящие вокруг, за большим овальным столом в столовой, смотрят на него с симпатией, с восхищением, в нем столько ума, остроумия... даже мама как-то сказала мне, — редкий случай, она редко о нем говорила... «Твой отец очень умен...»
— Она сказала это однажды еще в Петербурге, просто так, без повода, равнодушным, безразличным тоном, как будто только констатировала факт, не придавая ему особого значения...
— По воскресеньям, во второй половине дня, ко мне приходит Миша, его родители тоже здесь, а еще господин и госпожа Переверзевы, господин Иванов, большой друг отца, и господин Билит, у которого есть привычка приходить без предупреждения, в любой вечер, когда ему захочется, и если мы в это время как раз ужинаем, ему ставят прибор. Вера, которую смешит и удивляет его волчий аппетит, подает ему на десерт, даже если ужин был достаточно обилен, огромный омлет с вареньем — его любимое блюдо. Господин Билит — замечательный математик. В каком-то сражении или, может быть, покушении он потерял левую руку — из рукава у него высовывается деревянная ладонь в коричневой кожаной перчатке. Тут же сидят две сестры, дамы в возрасте, и другие гости, которых я меньше знаю и про которых я меньше помню.
Когда я смотрю на мужчин и женщин, собравшихся вокруг стола, людей стареющих, усталых и чуть печальных, я думаю, что никто, наверное, не догадался бы, какие они незаурядные, выдающиеся личности — революционеры, герои, которые не колеблясь шли навстречу самым страшным опасностям, давали отпор царской полиции, бросали бомбы... они шли со скованными ногами, «по этапу», в самые недра Сибири, их сажали в карцеры, приговаривали к повешению, и они, не теряя выдержки, ожидали смерти, готовые, когда взойдут на виселицу, когда палач приблизится к ним, чтобы накинуть на их головы ужасный капюшон и обвязать шею намыленной скользкой веревкой, прокричать в последний раз: «Да здравствует Революция! Да здравствует Свобода!»
Я равно восхищаюсь ими всеми, без исключения, но больше всех, даже больше, чем родителей Миши и господина и госпожи Переверзевых — которых я очень люблю и часто хожу к ним в гости, — я люблю господина Иванова.
Тонкие черты его красивого лица, да и его фигура словно «пронизаны добротой»... ею лучатся морщинки вокруг его губ, его очень светлые, как бы выцветшие глаза и даже маленькие мешки под глазами...
Господин Иванов слегка заикается и кажется от этого еще более мягким, безоружным, простодушным... При мне кто-то рассказал, что он заикается с тех пор, как его разбудили в камере смертника и объявили, что приговор смягчен и казнь через повешение заменяется пожизненным заключением. Разумеется, он не подписал прошения о помиловании. Невзирая на мольбы близких и даже требования судей, он так и не согласился на такой шаг. Как, впрочем, не согласился бы никто из сидящих за этим столом. О тех, кто просил царя о помиловании, говорят понизив голос, как будто эти люди несут на себе позорное клеймо.
С двадцати до сорока пяти лет господин Иванов пробыл в заключении в Шлиссельбургской крепости, долгое время в одиночной камере, и единственным его чтением там была Библия... Я часто слышу эти слова — «Шлиссельбургская крепость», «Петропавловка», «охранка», «черная сотня»... Часто говорят о встречающихся в «колонии» подозрительных личностях, которые выдают себя за революционеров, а на самом деле не исключено, что они тайные полицейские агенты, шпионы... Мише они чудятся повсюду, и папа, смеясь, говорит, что господин и госпожа Агафоновы заразили его своей болезнью, «шпиономанией»...
— Несколько лет спустя, когда произошла революция и начали открывать досье охранки, выяснилось, что эти подозрения были порой вполне оправданны.
— Отец, хоть сам и смеется над этой их манией, не может удержаться, и когда ему кто-нибудь не по душе, начинает разбирать его по косточкам, превращая в столь беспокойную, мудреную и комическую фигуру, что гости внимают ему как завороженные, они очарованы его юмором, находками, остротами... его темные глаза горят, белые зубы сверкают, его острословие, его ум, будто искрящееся лезвие, режут... иногда прямо по живому... порою мне кажется, что оно режет и во мне... однако оно вонзается в кого-то другого, почти или вовсе мне незнакомого... но я уже чувствую на себе его ледяное скольжение... мне немного больно, немного страшно... интересно, чувствуют ли это другие, как я? Господин Иванов, например? о котором отец говорит, что у него такой ясный, такой проницательный ум, не считает ли он, что отец заходит слишком далеко... До сих пор он улыбался своей мягкой, тихой улыбкой... но вдруг его улыбка словно застывает, во взгляде проскальзывает какое-то движение... мне кажется, в нем что-то сжимается, съеживается... но совсем легонько, чуть-чуть...
Кто-то вежливо прерывает отца... «По-моему, Илья Евсеевич, здесь вы все-таки преувеличиваете... особой симпатии он, конечно, не вызывает, но я хорошо его знаю, не такой уж он плохой парень...» Господин Иванов лишь снисходительно кивает головой, он, должно быть, смотрит на необузданную горячность отца, как взрослый наблюдает за шалостями ребенка, порой слишком шумными, когда тот возбуждается, резвится... но он понимает, что отец на самом деле вовсе не злой... понимает, что, если тот, кого только что так безжалостно высмеял отец, обратится к нему за помощью, отец мгновенно забудет, каким он ему представлялся, и увидит в нем просто несчастного, нуждающегося человека, и никогда ему не откажет, отец не умеет отказывать...
— Вера пыталась порою его удержать... «Даешь неизвестно кому, все этим и пользуются... Уверяю тебя, у него побольше средств, чем у нас...», а он отвечал ей, слегка пожимая плечами: «Что ж, тем лучше для него».
— Вера сидит напротив отца, на другом конце стола, на месте, которое должна занимать хозяйка дома, перед большим медным самоваром. Она разливает чай в чашки и стаканы, раздает их, забирает пустые, ополаскивает дно над мисочкой, подставленной под кран самовара, снова наполняет их, передает обратно и постоянно следит за тарелками гостей, надо, чтобы всем всего хватало... она никогда не разговаривает, произносит разве что несколько слов, скорее даже слогов, или коротко смеется, из вежливости... Слушает ли она, что говорят? Ее неподвижные прозрачные глаза, напоминающие порой глаза кошек, порою хищного зверя, останавливаются время от времени на чьем-нибудь лице... а после ухода гостей она говорит, особенно о тех, кто бывает у нас нечасто, кто появился впервые, своим резким, не допускающим возражений тоном: «Такой-то (или такая-то) очень высокого о себе мнения». Чувствуется, что это окончательное обвинение, приговор, не подлежащий обжалованию... и это каждый раз вызывает у меня все то же удивление, все те же вопросы: с чего она это взяла? Почему из всех возможных суждений о человеке она выносит всегда одно-единственное? И почему она придает этому такое значение? Мне кажется, все люди, какими бы они ни были, делятся у нее на две категории: те, кто высокого о себе мнения, и остальные.
— Долгое время ты и не пыталась разобраться, что может содержать в себе это суждение...
— Оно поражало меня... Я начинала испытывать симпатию и даже некоторую зависть к тем, кто был «высокого мнения о себе»...
— Может, это были как раз самые живые, самые интересные люди?
— Не исключено... Когда Вера после ухода гостей исторгала из себя эту короткую фразу: «Он (или она) очень высокого о себе мнения», сопровождаемую сухим звуком, гм-гм, мне казалось, она задувает пламя свечи или лампы...
Стулья опустели, свет погашен, можно наконец уйти к себе, отдохнуть... I
Я впервые задумываюсь об этом, в то время у меня и мысли такой не могло возникнуть, я считала все настолько естественным, само собой разумеющимся, но теперь меня поражает, что тогда у нас никто не делал различия ни с моральной, ни с интеллектуальной точки зрения между мужчинами и женщинами. У меня было "чувство...