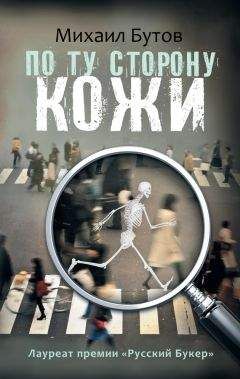Михаил Бутов - Свобода
— Ну да, — сомневался я, — пчелы… А личность? Теперь и физики считают, что она необходима в мироздании.
— А прежде нас, прежде какого-нибудь хомо эректуса, — она где была? И кем, кстати, установлено, что личность непременно должна совпадать с биологическим неделимым? А всякие соборные и народные души, о чем в последнее время столько трындят, — с ними тогда как? Может быть, стоит как раз задуматься: вдруг личность и особь — не всегда синонимы?
Вообще-то я много узнавал из разговоров с ним. Но вот эти его идеи не стал бы подписывать как символ веры. Ум у меня устроен иначе. Картина мира, откуда исключен наблюдающий мир человек, от меня ускользает, и я не в состоянии ее удерживать. А если требуется помыслить слона, я сначала воображаю живого слона Бумбо в цирке или саванне — и только потом рассматриваю его как представителя семейства или вида. К тому же, как ни крути, в природе разлита безмятежная смерть. А мне и один человек, и народы, и человечество интересны главным образом в меру своего стремления из-под смерти выйти; более того — вывести за собой материю. Я ездил, любовался, старался проникнуть, созерцал и фотографировал… Ничего, признаюсь, так и не понял.
Единственный результат — интуиция: нам с природой не выбраться друг без друга. Поэтому в красивом пейзаже, в невероятной архитектуре дерева, в животной грации я нахожу, как и в лицах некоторых людей, род обещания. Поэтому крайние концепции, согласно которым нам пора решительно переделать свою жизненную среду из природной в технологическую, отпугивают меня. Но равно настораживала и легкость, с какою мой биолог выносил точку отсчета за рамки всех человеческих измерений…
Дела у меня были не из лучших в ту осень, когда мы вели с ним такие беседы. Он жил в двух кварталах от моей работы, где я по восемь часов в день таскал в подвал или из подвала мешки с цементом, железные двери и краску в бочках. Покуда его жена, потеряв терпение, не прикрыла лавочку, я частенько напрашивался к нему ночевать. Мы устраивались на кухне и пили кислое самодельное вино из крыжовника. Он говорил. Я не спорил — куда там. Мне стоило труда составить связную фразу. Половина моего сознания не покидала подвал. Свалившись с ног задолго до полуночи, я и во сне помнил, куда должен спуститься утром. Чтобы надсадно кашлять, наглотавшись взвешенной пыли, курить до горечи во рту, сплевывать серым; чтобы, мимоходом задремав на стуле, увидеть на мгновение белые склоны, и теплый свет сквозь снег, налипший на окно нашего домика, и астрофиллитовый ручей под ногами (которого не отыскал наяву — а так хотелось) — но тут же вскочить от звука чужих шагов, с застрявшим вопросом в голове: разве это я там был? Не я…
Была ночь и было утро под знаком черепахи. Андрюха остался жить у меня. Мы ничего не обговаривали. Порой, не предупредив, он пропадал дня на три или на четыре — однако смену брюк и рубашек держал у меня в шкафу. И далеко не сразу я к этому привык. Не в том беда, что пострадало мое одиночество — хотя к одиночеству я здорово прикипел душой. Но по утрам, часов около девяти, Андрюхе приходилось выдвигаться на службу. А ничто не угнетает меня сильнее, чем ранние целенаправленные пробуждения, причем не важно, мне ли вставать или кому-то рядом. Обычно волей-неволей просыпался с ним вместе и я. Ворочался и слушал: вот он со стоном, вслепую (поднимите мне веки!), обивая углы, движется из комнаты, вот с грохотом приводит в действие унитаз; затем моется по пояс холодной водой, отфыркиваясь и трубно сморкаясь в ванну; скребет щеки бритвой, напевая что-нибудь эстрадное русскоязычное, разбавленное бляками; наконец, исповедуется на кухне чайнику, отпуская нелестные замечания по адресу своего начальства. Раньше Андрюхина геофизическая партия активизировала деятельность за месяц до начала полевого сезона и сворачивалась через месяц после возвращения. Зимой в контору более-менее регулярно наведывались только научные сотрудники, а честные взрывники и бурильщики забегали пятого и двадцатого за деньгами — весьма скромными в отсутствие полевых надбавок и широтных коэффициентов. Но в прошлом году, пока Андрюха самоотверженно бурил и взрывал где-то в Северном Казахстане, вдруг поменялось руководство — а стало быть, и порядки. Теперь за те же зимние копейки обязали являться в контору мало что каждый день — еще и к определенному часу! Три прогула — вылетаешь по статье. Андрюха таскался пока, копил злобу и недосып. Загибая пальцы, доказывал мне, что уже достаточно набралось причин оттуда уволиться. Но ведь жаль уходить: привык и многое нравилось там, столько было раньше у этой работы положительных сторон!.. «Мы, видите ли, полгода бездельничаем! — возмущался Андрюха. — Ну и что? Мы, между прочим, другие полгода вкалываем сутки напролет — что в жарищу, что под дождем — и права не качаем. Не, это никого не колышет. Им дисциплину подавай! Лишь бы все испоганить…»
Случались у него и кое-какие денежки, навар: чем-то он приторговывал по мелочи на пару с экспедиционным шофером (а втягиваться в предприятия свойственного ему размаха медлил, еще не расчухав общую ситуацию, — слишком резко тут повернулись дела за время, которое он провел в поле). Тогда вечерами мы пили чай с сахаром, ели торты, водочку закусывали исландской селедкой и огурцами. Потом возвращались к рису с морковкой, подчищая последние запасы, — доллары свои я старался беречь. Днем, в тишине и покое, я изучал обнаруженный среди Андрюхиных вещей «Лонгмановский словарь новых слов английского языка». Помимо Джека Лондона только одно сочинение Андрюха точно дочитал до конца — роман Куваева «Территория», об открытии золотоносного района на Чукотке, и называл его «библия геолога». Однако имел странную манеру возить с собой самые неожиданные книги. Раз он прислал мне посылку из Коми АССР. Я думал — красная рыба.
Оказалось — три тома Лейбница, на их обложках и обрезах поселилась плесень и остались следы долгого пребывания в сырой палатке.
Словарь зачаровал меня с первой же статьи: «Эйблеизм» — несправедливая дискриминация в пользу здоровых людей».
Приводились газетные выдержки, поясняющие понятие. Если на вакантное место на строительных, скажем, или дорожных работах из претендующих одновременно амбала и доходяги предпочтение отдается амбалу, то Британская рабочая партия, профсоюзы и вся прогрессивная общественность протестуют против подобного положения дел.
С каждой страницей становилось все интереснее. Я узнал, что «репдофилия» — не сексуальное извращение, а коллекционирование прогулочных тростей. Что современные англичане, желая обозвать соотечественника дураком, обычно используют то или иное жаргонное обозначение вивимахера. Что люди, именуемые «сэрвайвалистами», «выживателями» (я припомнил аналогию: «эскейпист», «избегатель» — профессия Гарри Гудини), не ставят своей целью просуществовать, например, год, ниоткуда не получая ни пенса, или с коробком спичек, пачкой соли и топором продержаться недельку в глухом лесу (во времена моего студенчества была мода на такие походы), но всего лишь обзаводятся экзотическим холодным оружием: самурайскими мечами, стреляющими ножами, «звездочками смерти», — с которым и репетируют непрестанно, чаще всего прямо на городских улицах.
Внимание граждан Объединенного Королевства было приковано к этому движению, когда 19 августа 198 7 года его представитель, некто Майкл Райэн, убил шестнадцать человек, после чего зарезался сам.
Я лежал, читал, говорил сам с собой. Если, задумавшись, расслаблял глаза, буквы отрывались от листа и повисали в пространстве. Книги не горят, сказал один раввин, наблюдая аутодафе, горит бумага. А буквы улетают и возвращаются к Богу.
Иные слова тронули меня икренне. Особенно «урсофобия» — боязнь медведя. И не тем только, что живо напомнило о сгинувшем друге.
Откровенной избыточностью, происхождением из пресыщенности — словно отрыжка на пиру.
— Медведя, — спрашивал я у словаря, — не испугается только круглый вивимахер; зачем же специально называть?
И книга презрительно отвечала из-под черной обложки: вахлак!
Если с какой-нибудь стороны реальность поддается делению, сюда обязан направлять свои усилия интеллект. Чем добросовестнее дробят мир ум и язык, чем тоньше пленочки, на которые они расслаивают его, чем полнее каталоги и длиннее перечисления — тем надежнее скованы демоны, тем легче убедить себя, что мир человеку по мерке, благоволит ему и пригоден для достойной жизни. Даже твой дед, проходивший через ночь, догадывался об этом. А здесь — Англия!
«Лингвистические пуристы, возражающие против сложных слов типа «телевизор», этих смешанных браков, где сочетаются греческие и латинские элементы, несомненно предпочли бы форму «арктофобия», ибо по-гречески медведь — «арктос».
Значит, Арктика — это страна медведей? А Чехословакия — страна слов Чехова?