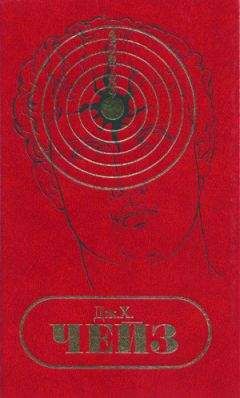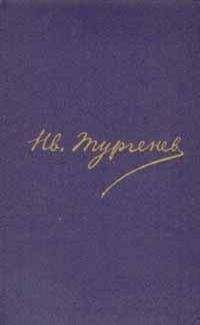Виктор Астафьев - Последний поклон (повесть в рассказах)
И опять я качу на своих двоих по-над яром, по дорожке, и опять глазею. Из лога и бочажин вода совсем почти ушла. В теплых лывах вяло плавились мальки, ища выхода. Охотиться на рыбью мелкоту слеталось воронье. Вокруг лыв, усеянных живым крошевом головастиков, ярким хороводом пошли калужницы[255]. Шебарша кожаной листвой, бегали под калужницами долговязые кулик с куличихой, под названием фифи, выпугивая из-под них трясогузок, бабочек, жуков и пчел. Потоптавшись под листами, в дурманном озарении цветов, насорив желтой пыли на воду, кулик с куличихой масляно скользнули по кругу лужи, затем их как бы подхватило легким воздухом, скользящим по логу, и вынесло к Енисею. Фифи реяли над водой, работали всем телом, несясь над темными стремнинами, нежней, переливистей делалась их песня, полумесяцем изогнутые крылья, хвосты с беленькой каемочкой, пушистые брюшки с прижатыми к ним лапками, безбоязно опрядывали гиблую с виду гладь воды.
Из скал выметнуло стрелку чеглока[256]. Он вкрадчиво запиликал — и кулик с куличихой — от греха подальше ткнулись в тень берега. Обстригая остриями крыл лохмы одинокого облака, чеглок упоенно плавал по небу, все глубже погружаясь в призрачную голубизну, вот сделался с воробья, с пчелку, с мошку величиной и наконец совсем утоп в небе.
Эх, Андрюша, нам ли быть в печали!
Не прячь гармонь, играй на все лады!.. —
заорал я ни с того ни с сего. Усталая женщина с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, сказала:
— И чё орет, дурак! — но, увидев меня в гимнастерке, да еще и с медалями, пошевелила усталым ртом, пытаясь улыбнуться.
Я потянул у нее вязанку дров, она не сопротивлялась. Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и свойски уже спрашивала, не стаскаю ли я всю поленницу с берега в казенную дачу, которую она сторожит?
И рад бы, отвечал я, да не могу, спешу к бабушке в родное село, в котором не был с сорок второго года.
И женщина сказала: чего же я тогда дурака валяю? Чего прохлаждаюсь? С войны людей как ждут? — и стала отбирать у меня вязанку. Но я не отдал вязанку, донес ее до дачи, присел на краешек крылечка, огляделся и, не веря самому себе и времени, так, оказывается, твердо отпечатанному во мне, сказал:
— Вы знаете… Где-то здесь… здесь вот чуть было не замерз… до фронта…
Женщина, клеткой укладывавшая дрова возле низкого заборчика, приостановила работу.
— И замерз бы. Чего хитрого? Сколько тут народу тоже погинуло-о. — Она еще говорила, ну, как водится, про своих, которые тоже где-то загинули, а может, и живы, — находится сейчас народ, из мертвых восстает.
Но я перестал ее слушать, на меня вдруг накатило волнение: неужели тогда зимой сорок второго я мог так, запросто?… Ничего не понявши в жизни, ничего не увидев, не дожив до этой вот светлой весны? Да как могло такое быть? Несправедливо же! Но теперь-то я хорошо знаю, как проста смерть. Как она ко всем одинаково равнодушна. «Могло быть, уважаемый, могло! По-настоящему!» — такой же ты, как и все люди, смертный. Это ведь только в юности да в дурной молодости кажется, что ты не тюх-тю-лю-люх, а что-то там этакое-переэтакое, и умереть не сможешь. Другие могут, ты — нет! Ну, а если умрешь, чтоб кому-нибудь досадить, то, как насладишься раскаянием обидевших тебя людей, тут же и воскреснешь, и милостиво, как Иисус Христос, простишь их всех, несмышленых, даруешь им возможность полюбить тебя, искупить перед тобой грехи малые и большие.
Мне сделалось жалко самого себя, того дураковатого фэзэошника. Умирают насовсем, товарищ фэзэошник. Насовсем! Ничего не остается. Был ты, и нету тебя! Понял? Совсем нету! Вот какую науку я прошел на войне. И вот почему только теперь, давним временем, задним умом я по-настоящему испугался той смерти, которая приступала ко мне здесь, в этой местности, брала за горло, давила мерзлыми перстами…
Я передернулся, встал, попрощался с женщиной и побрел по берегу, разом почувствовав, как устал и как мне хочется есть. Впереди неожиданно встал забор из досок, прибитых внахлест, крашенный густой зеленой краской. Я повел по забору единственным, уцелевшим на войне глазом и обнаружил: забор уходит в глубь леса, к подгорью, конца его не видно, в загородь угодили лучшие дачи, строенные еще енисейскими толстосумами-золотопромышленниками да местной знатью. Как бы нечаянно пригорожены лучшие клинья соснового бора и колки березового леса. Меж деревьев виднелась водокачка, толсто укрытые дерном подвалы и приземистый склад — все это ограждено ниткой колючей проволоки, застенчиво-тонкой по сравнению с окопной, но все же штаны и кожу на заду порвать годной. Одним концом забор опускался в Енисей прямо в воду, с реки его было не обойти. Я решительно двинулся в ворота, из которых только что выпорхнула полуторка и, звякая бидонами, рванула к городу. Едва я сделал несколько шагов по ограде, где успела уже зарасти и превратиться в тропку торенная деревенскими телегами, ногами моих односельчан, а также местными дачниками езжалая дорога, по обе стороны которой были излажены теперь гряды разных форм, на них что-то уже взошло и налаживалось цвести, как услышал:
— Гражданин!
Из будки, крашенной тем же зеленым цветом, что и забор, ко мне шел угрюмый мужик в милицейской фуражке. Дверца в будку осталась открытой. Я увидел в ней столик, покрытый газетой, чайник, банку с медом, в которой шевелились комком осы-воришки. «Ух, ты! — обдало меня жаром. — На подсобное хозяйство, а может, на военный объект затесался!..»
— Гражданин! — взмахнув рукой у виска, глухо повторил милиционер. — Здесь ходить не положено!
— Военный объект? — понимающе отозвался я. Но вышло это у меня как-то игриво, потому что хоть и опечалился я, вспомнив про то, как не замерз чуть было давней порою, с души все равно ничего не сдуло — ни вешней певучести, ни ветреной легкости, и по-прежнему все вокруг казалось излаженным по моим душевным чертежам, двигалось и звучало согласно настроению моего, еще совсем молодого сердца.
Милиционер и тот начал высветляться взглядом, но, вспомнив про службу, насупился:
— Не положено, и все!
Нет, не военный тут объект — уразумел я и полез в пузырь, не зло лез, как бы играя в гнев, напуская его на себя, забавляясь им:
— Значит, пока мы воевали, пока кровь проливали, вы тут дачки старобуржуйские отхватывали! Устраивались!
— Я тоже воевал, гражданин, — бесцветно и вяло отозвался милиционер, явно сожалеющий, что сбивает меня с намеченного пути, глушит во мне радужное настроение и должен убеждать в том, в чем убеждать ему, как можно было догадаться по тону и лицу, никого не хотелось.