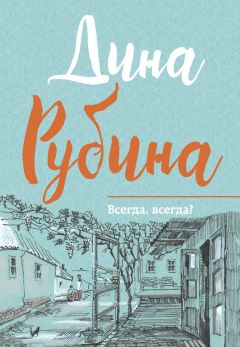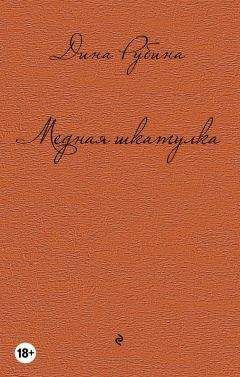Всегда, всегда? (сборник) - Рубина Дина Ильинична
Кося между тем совсем пригрелся, прихорошился, замурлыкал песенку, ушел, шаркая тапочками, в кухню.
– Таня, – позвал он оттуда. – А покушать есть чего?
– Возьми гречневой каши в кастрюле, – отозвалась Татьяна Евсеевна.
– А где она?
– Господи, ничего никогда не найдет сам, – вздохнула она, поднялась и ушла в кухню.
Я все еще держала в руках фотографию с какой-то пальмой.
– Ну вот же, вот она стоит, – донеслось из кухни раздраженное, – сыр возьми. Чего на ночь-то жрать, не понимаю. Завтра опять будешь ныть, что печень болит.
– Слушай, надо бы завтра яиц купить. Да, забыл: Мазуцкий звонил насчет халтуры. Три детских садика заказывают выпускные фотографии.
Я положила карточки на диван, тихо встала, на цыпочках прошла в темный коридор и, нащупав замок, быстро повернула его и вышла вон, бесшумно притворив за собою дверь.
Минут десять я бежала наугад, не понимая – куда, словно за мною гнались. Я петляла по улицам, забегала в переулки, словом, всячески заметала следы.
Наконец выбежала на какую-то узкую улицу средневековой архитектуры и остановилась: все нижние этажи зданий занимали витрины магазинов. В полном безлюдье раскачивался на ветру подвешенный на цепях кованый сапог, бледно светились глумливые морды манекенов. В одной из витрин раскинули рукава распятые мужские рубашки, так, что хотелось вставить туда гармонь. Эта распашка пустых объятий пугала больше, чем мертвые улыбки манекенов.
И вдруг из переулка вышел странный, давно не бритый человек и, возможно, кому-то и страшным бы показался, особенно в синеватом свете витрин, но я не испугалась. В моих смешных обстоятельствах кто уже мог мне навредить? Убить, например, или еще что – нет, это уже была бы другая стилистика. А жизнь, она, знаете, очень щепетильна в вопросах стиля, особенно когда дело касается фарса.
И действительно, человек подошел ко мне и спросил заботливым голосом:
– Извините, вам шаль не нужна? – И вытаскивает из чудного такого бархатного чехла с вышитым на нем подсвечником тонкой материи шаль не шаль, а что-то вроде длинного широкого шарфа, белого, с кистями, с поперечными черными полосами по краям. Видно сразу – благородная, красивая вещь. Что-то она мне сильно напомнила.
– Вы не волнуйтесь, это не краденое, – торопливо объяснил небритый. – Видите ли, у меня траур, дедушка скончался. Это от него осталось. Попробуйте – какая ткань, попробуйте. За четвертак я вам отдам. Вам же холодно без головного убора.
И хотя я не понимала – почему от дедушки осталась женская шаль и зачем ночью, на улице, продавать память о дедушке, я сказала:
– Ну, хорошо, четвертак – это недорого.
Он обрадовался, сунул мне бархатный чехол с шалью и, пока я доставала деньги, говорил торопливо:
– Понимаете, у меня жена… Она и так раздражена, что я не бреюсь семь дней по закону, а тут еще этот дедов… шаль… Ну, до скандала, до развода – иди, говорит, выбрасывай куда хочешь, первому встречному продай этот наряд антихриста…
– Не нервничайте, – сказала я, – все народы должны в дружбе жить…
Он так радовался, пожал мне обе руки и даже вывел к центральному телеграфу, потому что мне необходимо было с папой поговорить.
Но полноценного разговора не получилось, даже денег жалко: когда папа снял трубку, я вдруг захохотала и не могла ничего сказать. Папа слушал минуты три мой хохот и взвизгивания и наконец сказал дрогнувшим голосом:
– Доченька… Доча, вернись, я все прощу.
И когда я это услышала, эту фразу, которую я корректировала сто раз у ста писателей, я вообще от хохота опустилась на пол телефонной кабины, я рыдала от смеха, я захлебывалась, я стонала. Господи, никогда еще я так не смеялась в жизни…
…А под утро я добрела до набережной, села на скамейку посреди пустынного пляжа и застыла. Море гудело, как… нет, не хочу, про все это уже было. Ветер выдувал тепло отовсюду, даже из-под мышек. Я окоченела и казалась себе скифской бабой, затерянной в степи. И тут я вспомнила, что у меня есть шаль. Не теплая, конечно, но хоть что-то. Я достала ее из бархатного чехла, при этом на колени мне вывалились какие-то ремешки, похожие на уздечки, с коробочками, я надела шаль на голову, закуталась вся и даже подвязала на шее уздечкой, чтобы ветер шаль не сорвал. Сидела, дремала, мерно покачиваясь от утреннего ветра, и смотрела на пустынный пляж.
Когда я открыла глаза, уже рассвело. Море было похоже на жидкую дрожащую финифть. На пустынном пляже бодрая старуха делала зарядку. Она только что вылезла из воды, взобралась по крутому бетонному гребню на цепко раскоряченных ногах и делала зарядку, да не обычную, а какую-то чудную, вроде китайской гимнастики ушу. Старуха и была похожа на старого желтого китайца. Видно было, что она из тех людей, кто до старости в спортивных рейтузах и с рюкзаками на спинах взбираются на камчатские сопки. Из тех старух, что лет тридцать уже не едят мяса, рыбы, яиц, орехов, грибов, кофе, чая – потому что все это вредно. Из тех старух, которые завтракают горсткой сырого геркулеса, запаренного кипятком, а обедают куском вареной свеклы, ну и так далее. Из тех старух, которые носятся с теорией могучей уринотерапии, по утрам опрокидывая стаканчик свежей собственной мочи. Словом, из тех.
Они действительно молодчаги и в девяносто лет свернутся вам в любую позу йоги, но говорить с ними почему-то совершенно не о чем, кроме как о йоге, голодании, клизмах и уринотерапии.
Да. А потом старуха обмоталась полотенцем и стала, суча ногами, стаскивать с себя мокрые трусы, чтобы сменить их на сухие. Полотенце съехало, обнажив старый морщинистый зад. Следовало деликатно отвернуться, а я смотрела на этот мятый мешочек старухиного зада, и вдруг страшная горячая жалость хлынула в мое горло: какое это, в сущности, издевательство – вся наша жизнь, думала я, и к чему зарядки, диеты, клизмы и уринотерапия, если все равно в конце концов пленительное человеческое тело превращается вот в это…
И вдруг я вспомнила, где видела такие белые шали, – в книжке одной, атеистической, я ее лет пять назад корректировала, – там на картинке были изображены евреи в синагоге, и у каждого на плечах была шаль, белая, с длинными черными полосами по краям.
И знаете – меня совсем не передернуло. Я поняла, что осталась единственной, кто будет хранить память о неизвестном дедушке.
Утром я купила билет на поезд до Москвы и, на случай, если Кося приедет искать меня, до отхода поезда пряталась в вокзальном туалете, о чем неоднократно читала у разнообразных писателей…
По средам литфондовский автобус возил нас в Рузу. Набивалась в тарантас половина малеевских постояльцев. Знаете, в Рузе всегда какой-нибудь дефицит ухватишь – шампунь, например, бывает. Мы заперли Лакки в номере и минуты три стояли за дверью, слушая, как псина воет и рыдает. Маринка сказала решительно:
– Плевать. Я имею право распоряжаться собой, в конце концов, я тоже человек.
– Акын пожалуется, – напомнила я.
Номером ниже под нами жил классик казахской литературы, очень солидный человек, – мы называли его условно: Акын. Он уже неоднократно жаловался дежурной по корпусу Люсе, что Лакки воет и лает во время творческого процесса. В ответ на жалобы мы совали в синий карман синюю пятерку, и жалоба как-то не доходила до администрации, глохла у Люси в кармане.
– Ей-богу, сегодня пожалуется, – повторила я, прислушиваясь к безобразным воплям избалованного пса.
– Дадим пятерку Люсе, – сказала Маринка.
– Может, лучше сразу дать ее Акыну? – спросила я…
… В Рузе мы прогулялись по сельмагам, зашли в «Детский мир», купили майку Сереге, Маринкиному сыну, потом заглянули в книжный – порыться на полках. Вдруг Маринка больно пнула меня локтем в спину, я обернулась, а у нее глаза просто горят бешеным восторгом.
– Это он!! – сдавленно шепчет Маринка. – Прислушайся к разговору – охренеть можно!!
Оборачиваюсь – да, молодой человек лет сорока, в очках, в светлом плаще, излишнем для теплой такой погоды, беседует, облокотясь на прилавок, с продавщицей.