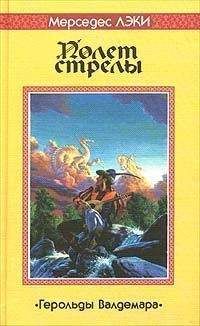Путь стрелы - Полянская Ирина Николаевна
Впрочем, длилось это недолго, даже самая наивная женщина вскоре догадывалась о его социальном статусе, вернее, о полном отсутствии такового, поэтому он спешил объяснить, что своего дома в столице пока не имеет, а живет на квартире у тетки, которая работает маклером в Банном переулке и в данный момент натаскивает его в этой профессии, передавая ему все свои наработанные навыки и связи.
На самом деле Степан поселился в ее доме на правах няньки — из-за ее ребенка, двухлетней девочки, нуждающейся в уходе, которую больше не на кого было оставлять, когда тетка, в недавнем прошлом инженер-конструктор, уезжала в свои челночные рейсы в Польшу или Турцию в компании других таких же теток за фальшивой французской косметикой и другим животрепещущим женским товаром. Надо сказать, Степан крепко привязался к малютке, читал ей книжки, талантливо рисовал зверушек, смотрел с нею любимую передачу «Спокойной ночи, малыши!» и время от времени говаривал, что Степашка — это он и есть, добрый бездомный пес Степан. Время от времени тетка делала попытки через знакомых пристроить Степана оформителем магазинных витрин или чего-нибудь еще (торговать на рынке он категорически отказывался), но из этого, как правило, ничего не выходило, почти всякую работу он благополучно заваливал, отовсюду сбегал. Иногда ему можно было позвонить в известную галерею художников в Грузинах, и, случалось, он даже подходил к телефону. Кто и почему пригрел его там, он не рассказывал, лишь намекал, что собирается при галерее организовать детский благотворительный фонд, дело только за офисом, а для того чтобы пробить помещение в центре, необходимо выйти на Ирину Хакамаду...
Он жил как птица небесная, запутывая следы и напуская туману по любому, даже самому незначительному поводу, пока его друзья-ровесники из Строгановки что-то приватизировали, устраивали выставки, ездили за границу на волне горбачевского бума и скоротечной моды на русскую живопись, где-то устраивались, дружили и обрастали связями. Как-то он рассказал мне про Маргариту, талантливую художницу-флористку, рисующую цветочные натюрморты и выставляющую свои картины на Крымском валу. За продажу своих картин Маргарита выручала сущие гроши, которых едва хватало на кисти и краски, а кормила ее в основном дочь, работающая парикмахером в модном салоне. Разумная современная двадцатилетняя девица, заявившая матери, что альфонсов в доме она не потерпит. Эта дочь однажды подстригла Степана, использовав его как модель в узкокорыстных целях, в целях опробования на нем каких-то своих парикмахерских идей в области новых мужских причесок. Длинные, волнистые, мягкие волосы Степана были его богатством, женщины на них западали, на его шевелюру вольного поэта и художника, прикрытую косо сидящим французским беретиком под Че Гевару... И вот в одночасье он лишился почти всех своих волос. Но даже такая жертва его не спасла. От Маргариты пришлось съехать. Злая девочка его выжила. Еще одну женщину, диспетчера службы «Скорой помощи», он исправно навещал в больнице, лепил под окнами ее палаты снежных баб, потому что была зима и бесплатные ромашки отпадали, а на то, чтоб купить апельсины, денег у него не было. И много еще, в сущности, трогательного совершил этот искатель счастья, но женщины, заматеревшие в своей столичной недоверчивости, на большее, чем тарелка борща и раскладушка на кухне, не шли. Либо за их спинами стояли подрастающие дети, либо маячили другие наследники, бдительно следившие за своими одинокими родственницами.
Год, отведенный ему теткой на обустройство в Москве, подходил к концу. Девочку она уже приспособилась отдавать в ясли на пятидневку. У нее на горизонте замаячил ухажер с видами — таким образом, тетка постепенно отпадала. Во многих домах ему стали давать от ворот поворот, тема неприкаянности все яснее обозначалась в его давшем трещину голосе, лихорадочной скороговорке, в бесконечных звонках приятелям-художникам, у которых он искал пристанища. Женам художников он тоже уже надоел, и они стали его попросту выпроваживать, чтоб не создавать очередного прецедента, потому что знали уже его способность вживаться в каждый такой прецедент, как в окоп...
Однажды в середине мая Степан появился у меня окрыленный и объявил, что уезжает за город на дачу к своей старой приятельнице Римме. Он пробудет на даче недельки две — застанет там цветение черемухи, которой вокруг гибель, будет сторожить дом, вскапывать огородные грядки, ремонтировать крыльцо и веранду... Я накормила его ужином. Степан подсел к телевизору, моя дочка повисла на нем, обхватив руками за шею, и они в два голоса стали подпевать дяде Володе Ухину его вечную песенку «Спят усталые игрушки, книжки спят...». Я вдруг увидела, как на щеке Степана блеснула слеза. Он стыдливо смахнул свои легкие слезы и за руку отвел мою дочку к ее кроватке. Потом за вечерним чаем, перед тем как отправиться на вокзал, он вдруг пустился в откровения... Рассказывал о своей маленькой племяннице, к которой успел привязаться. Если он уедет из Москвы, она быстро забудет его, ведь у маленьких детей совсем короткая память, короче даже, чем у женщин. Потом стал рассказывать, как любит Москву, Красную площадь, замоскворецкую набережную, ВДНХ и особенно Ботанический сад, где они подолгу гуляли с Маргаритой-флористкой, пока ее дочь не остригла его, словно Самсона, лишив какой-то части его мужской силы, и не выставила вон. А еще он любил в Москве одну яблоню на перекрестке Сиреневого бульвара и Третьей Парковой; теплыми майскими деньками он специально приезжает полюбоваться тем, как начинают распускаться ее бело-розовые цветы, — когда они раскроются, дерево, наверное, совсем оторвется от земли... В мае ему особенно верится в то, что он останется здесь, на этой земле.
«А что ты там будешь есть, на этой даче? — спохватилась я. — Давай я заверну тебе бутербродов». «Спасибо, не надо. Римма обещала приехать завтра, чтоб установить мне, так сказать, фронт работ и оставить продуктов на неделю...»
Он спешил на вокзал, чтобы еще успеть на последнюю электричку. Позвякивая в кармане связкой ключей от Римминой дачи, замотав тонкую шею своим артистическим малиновым кашне... Таким я его и запомнила.
Дальнейшее мне стало известно уже в пересказе Риммы, у которой на работе вдруг случился такой аврал, что вырваться на дачу она смогла лишь спустя неделю.
Степана она застала лежащим на раскладушке под тонким одеялом, с осунувшимся, нездоровым лицом и температурой. Степан все эти дни ремонтировал крыльцо и копал землю, нарисовал несколько акварелей с кустами цветущей черемухи, написал стихотворение, и все это на голимом кипятке, потому что на даче было хоть шаром покати, из-за участившихся краж никаких припасов на ней давно не держали. Проголодав неделю, Степан понял, что с Риммой что-то случилось. В один из дней он вышел на платформу к последней московской электричке. А тут подошел встречный электропоезд, идущий в Москву. Поняв, что Римма не приехала и на этот раз, Степан в какой-то момент дрогнул и, подстегнутый гудком локомотива, запрыгнул в электричку, чтоб вернуться на ней в Москву. На следующей остановке в вагон вошел линейный контроль, усиленный нарядом милиции. Билета у Степана не оказалось, денег на то, чтоб уплатить штраф и ехать спокойно дальше, естественно, тоже. Растерявшись, он не нашел ничего лучшего, как попытаться всучить им свою давнюю плацкарту, которая тоже ведь билет, оставшийся к тому же не использованным. Но был разоблачен контролером и на первой же остановке с позором выброшен из вагона на платформу глухого полустанка. Поезд ушел в Москву, оставив его одного под звездным майским небом. Электричек больше не ожидалось. Степан спрыгнул на пути и зашагал прямо по шпалам, пьяный от голода, унижения и бесприютного одиночества, совсем один во тьме кромешной, освещаемый тусклым месяцем, с неотвязной думой о том, что вот — Москва не желает впускать его обратно... В пути его застал дождь. Лишь под утро он добрался до своего дачного домика и, продрогший, мокрый, грязный, уставший как собака, без сил повалился на раскладушку. А днем наконец приехала Римма с сумками, битком набитыми снедью, преисполненная чувством вины за то, что ему пришлось пережить...

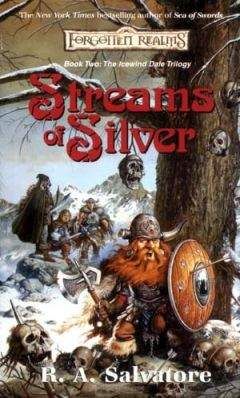
![Роберт Сальваторе - Серебряные стрелы [Серебряные потоки]](/uploads/posts/books/66682/66682.jpg)