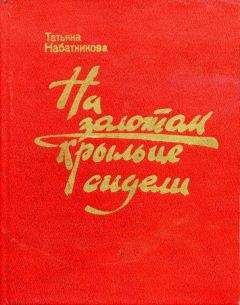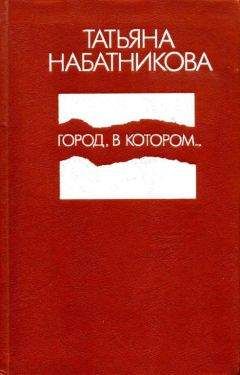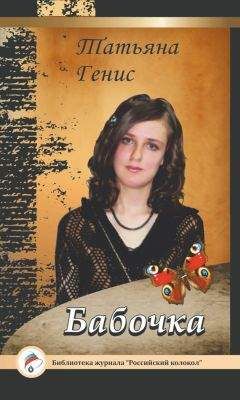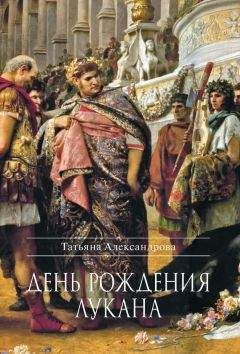День рождения кошки - Набатникова Татьяна Алексеевна
В четвертом часу постучалась в дверь соседка и, страшно смущаясь, попросила тише, потому что у нее болеет ребенок.
Галя с бледным торжеством взглянула на Мишу.
Мы с Вовой пошли провожать их домой.
Уже было светло, пусто и прекрасно. Мы слонялись по самой середине гладкого, как озеро, Комсомольского проспекта и ждали машину. Наконец она обрушилась с горы метромоста с нарастающим гулом, и Миша с Галей уехали на ней.
Мы остались, но домой, идти не хотелось — душа взяла разгон и требовала продолжения праздника. Мы молча брели по тротуару.
Навстречу так же лениво и бесцельно шел человек в кирзовых сапогах.
С одной стороны, конечно, это странно: все-таки центр Москвы, а не колхозная пашня… Но с другой: чему удивляться в четыре часа утра?
Сапоги были велики и в тишине гулко грохали по асфальту: бух, бух. Странный человек с опаской попросил закурить. Вова дал. У странного была голова фасолиной, обросшая ежиком после недавней стрижки наголо. Он жадно затянулся и с благоговением посмотрел на подаренную сигарету: с фильтром! Постояли. Пошли. Он почему-то побрел рядом с нами — может быть, он чувствовал себя обязанным за сигарету, а может, ему было все равно, куда идти. Как бы оправдываясь за свое присутствие, он тихо сказал:
— Пойду сейчас в метро. Поеду на метро к брату.
Братом он как бы похвастался.
— Пойдем проводим его до метро, — скомандовал мне Вова.
— Метро откроется через два часа, — холодно ответила я.
Наш спутник виновато взглянул на меня.
Мне стало ясно, что два часа мы с ним не расстанемся. Я знала Вову.
— Пойдем к нам! — тут же категорически и предложил он.
— Вова! — одернула я. — Туда нельзя!
— Почему? — обескуражился Вова.
Он, разумеется, забыл, что там соседи насилу нас угомонили. А мы еще приведем выпивать неизвестного мужика в сапогах и остриженного наголо — может, беглого каторжника. Все это я выразила в одном взгляде. Вова затосковал.
— Хочешь выпить? — спросил он каторжника.
Беглый невразумительно забормотал:
— Он думает, что он один умеет… Я этих коробок склеивал в два, нет, в три раза лучше, нет, больше…
Ага, псих…
— Таня! — пристыдил меня Вова. — Ну пусть он пойдет с нами, а? Ну что ты? А? Он же хороший мужик, ты что, не видишь?
Вова был пьяный.
— А Шмыга плохая артистка, — заявил псих, косясь на нас, — а играет все хорошие роли только потому, что у нее муж режиссер!
— Нет! — твердо сказала я. — Если хочешь, давай я во двор вынесу бутылку, а домой — нельзя!
— Ну хорошо, давай, — вздохнул Вова.
Я пошла, бегом побежала в дом за остатками рома — там было еще добрых полбутылки, я торопилась, потому что Вова остался внизу с этим сумасшедшим — а вдруг он убийца? Я схватила остатки еды со стола — правда, почти ничего не оставалось, только рыбные колбаски в целлофане. Кусок хлеба, два стакана. Помчалась вниз — уф, целый Вовка. Все мирно. Сидят на бортике газона.
— Таня, его зовут Александр Георгиевич Хорьков! — сказал Вова.
Гость кивком головы подтвердил это. Достал из кармана наручные часы без ремешка и предъявил мне:
— Они без минутной стрелки, но хорошие. «Восток»! А стрелку я сшиб, когда мебель перетаскивали. А часы хорошие.
— У меня тоже «Восток», — сказала я и показала ему точно такие же часы, только со стрелками и ремешком.
Александр Георгиевич с облегчением вздохнул.
Он был, пожалуй, не старше нас.
Вова налил в стакан рому. Пробочка-завертка покатилась по асфальту. Александр Георгиевич преданно пустился догонять ее.
Я демократично сидела на бортике газона в пятом часу утра в городе Москве.
Александр Георгиевич вернулся с пробкой, взял свой стакан и уважительно протянул мне. Ведь стаканов было только два.
— Я не пью! — замахала я головой.
— Она не пьет! — решительно сказал Вова. — Давай, Александр Георгиевич! Поехали! — И выпил, скривившись; струйка рома смочила подбородок.
Александр Георгиевич, я увидела, пить не хотел. Но, взглянув на Вову, все же выпил свою порцию с вниманием и уважением.
— Крепкое, — сказал он. — Наверное, дорогое. — Он посмотрел на этикетку. Там был серебром нарисован какой-то туземец с луком и стрелами.
— Шесть рублей, — сообщила я, не зная, дорого это или нет на взгляд Александра Георгиевича.
— А можно, я возьму это? — робко указал он на рыбную колбаску.
— Да ради Бога! — воскликнула я. Такая малосъедобная пища — я не думала, что ее можно захотеть. Александр Георгиевич, видно, был сильно голодный. Он съел. — Берите, берите еще!
— Можно, да?
— Берите, мы-то сытые!
— Я с собой возьму, — попросил он и сунул колбаску в карман.
Мы молчали. Вова тоскливо смотрел в небо. Он это страшно любит: выпить и красиво затосковать. Бог с ним, я решила сегодня терпеть эту лирику до упора.
Александр Георгиевич настороженно и чутко помалкивал, всем вниманием настроенный на нас. Он, видимо, тщился понять, кто мы такие, чтобы подчиниться и соответствовать. И чтобы мы — полюбили его.
— Саша! — сказал Вова, и Александр Георгиевич с готовностью встрепенулся. — Ты петь умеешь? Спой!
Петь он, наверное, не умел, но отказать не посмел, откашлялся и неуверенно начал:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым…
Он стеснялся, как он поет.
— Чепуха! — сказал Вова, и Александр Георгиевич пристыженно замолк.
Вова налил еще вина. Расплескал. Александр Георгиевич стакан взял, но пить не стал. Он не мог. Ему было неловко отказываться, но он не мог пить.
— Ну как хочешь, — разрешил Вова, опрокинул стакан, утерся и запел:
От людей на деревне не спрятаться…
Александр Георгиевич живо подхватил, глядя Вове в рот. Он забегал на полслова вперед, торопился — чтобы показать, что он, Александр Георгиевич, тоже знает эту песню. Ему хотелось равенства, братства и счастья. И ревниво косился на меня: вижу ли я, что и он тоже знает.
Они допели. Александр Георгиевич не удержался и снова затянул свою «Не жалею, не зову…». Правда, он опасался, что Вова опять оборвет, и потому спешил допеть и перешел совсем на речитатив, чтобы успеть раньше, чем перебьют.
Я встала. Во дворе была детская площадка с качелями. Я села на качели. Подошел Вова и стал меня раскачивать. Александр Георгиевич тоже приблизился.
Открылось окно в доме, мужчина раннеутренний в пижаме облокотился о подоконник и смотрел на нас.
Вове надоело меня качать, он бросил и пошел поэтично бродить. Александр Георгиевич подхватил брошенные Вовой качели и продолжал их раскачивать. При этом он очутился непозволительно близко от меня — и растерялся от такой своей дерзости, но и оставить качели не решился. Выбрал: смотреть в небо и смеяться, чтобы нечаянно не взглянуть на меня близко и не нанести этим взглядом ущерба моему хозяину.
Он сказал:
— Теперь науки — главное. Физика, биология. Микробиология.
Последним словом он гордился.
Я смотрела на окно, на мужчину в пижаме, а мужчина в пижаме смотрел на нас, Вова поэтично бродил вокруг, а Александр Георгиевич в кирзовых сапогах качал меня на качелях. Стояла на асфальте пустая бутылка из-под рома, и мы ничему этому не удивлялись, будто идет нормальная человеческая жизнь и так и положено на свете: тридцатилетней нарядной женщине качаться на детских качелях в пять часов утра, а разбуженному мужчине мудро глядеть на это из открытого окна первого этажа.
Я остановила качели. Подошел Вова.
Осмелевший Александр Георгиевич приподнято заявил:
— Самый лучший фильм…
— «Дело было в Пенькове», — решительно закончил Вова.
— Да, и этот. Этот второй. А самый лучший — «Гусарская баллада».
— «Весна на Заречной улице»! — выкрикнул Вова.
— Да, и этот. Но этот третий, — мягко, но неуступчиво сказал Александр Георгиевич, удерживая возникшее равенство.