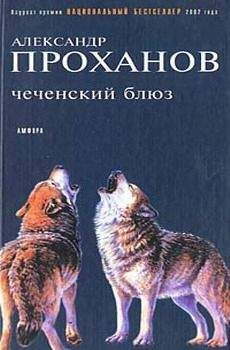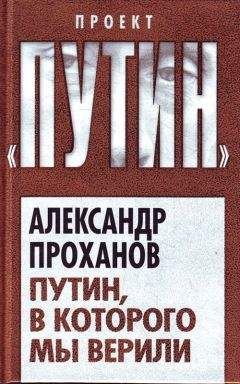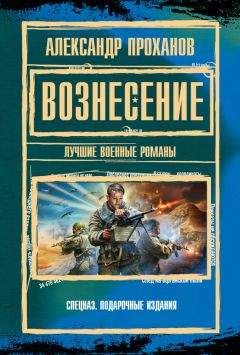Александр Проханов - Идущие в ночи
– Свяжись с «Фиалкой»!.. Сообщи, что едем к нему на «капэ»!.. Пусть скажет своим чудакам, чтобы не стреляли в упор!..
Уселся поудобнее на белой броне, ухватился за пулемет. Смотрел, как над головой проплывает цветная, продырявленная пулями вывеска.
Они сидели с сыном в разгромленной комнате, среди перевернутой мебели, на высокой горе матрасов. Разбитое окно было занавешено брезентовым пологом. Сорванная с петель дверь была изрублена на дрова. На полу валялись цветные черепки тарелок и чашек, серебристые осколки зеркала. Два их автомата стояли рядом, прислоненные к стене. Снаружи доносился рокот танка, крики солдат, негромкая, удаленная стрельба пулемета. Полковник наслаждался этим замкнутым, отделенным от мира пространством, в котором он был вместе с сыном, дышал одним с ним воздухом, осторожно касался его руки, слышал близко звук родного голоса, видел рядом его молодое, сохранившее свежесть лицо, на котором усталость серыми тенями, тусклыми, едва заметными вмятинами, беглыми штрихами рисовала другое, будущее, мужское лицо.
Сын говорил торопливо, словно боялся, что к ним придут и прервут их нечаянную встречу, или упадет с окна брезентовый занавес и в комнату ворвется жестокое слепящее солнце, или отец вдруг уйдет и некому будет поведать о постигшем его несчастье:
– Как мне жить теперь!.. Двух лучших солдат в плен отдал!.. По моей вине!.. Их теперь на крюке поджаривают!.. Кожу по кусочкам сдирают!.. Не с меня, а с них!.. Не сберег!.. Клык мне жизнь спас, оттолкнул от гранаты, собой накрыл!.. Звонарь один у матери, в церковном хоре пел, не от мира сего!.. Как мне теперь взводу в лицо смотреть!.. Как мне их в бой посылать!.. Пусть уж лучше меня пуля достанет, своя или чужая!..
Он жаловался, тосковал и винился, тайно ожидая от отца прощения, отпущения греха. Хотел, чтобы отец объяснил случившееся не проявлением его командирской беспомощности, а действием злых, подстерегавших повсюду сил, притаившихся в каждом кусте и пригорке, на каждом повороте дороги, в каждом угрюмом взгляде из-под стариковской косматой папахи или из-под женского цветного платка. Отец угадал его умоляющее желание.
– Возьми себя в руки, сынок. Тебе еще воевать. Люди чувствуют, ты цел или расплющен. Тебе их завтра вести в атаку, и они должны твердо знать, что ты не ошибешься, не дрогнешь. Войны без потерь не бывает. Могут меня убить, могут тебя зацепить. Война – это дурь, дело случая. Неделю назад по дороге ехал, чувствую, целят в меня, мушкой по переносице водят, а выстрела не было. Может, снайперу веточка глаз затмила. Через десять минут офицер штаба вез донесение, и его срезало насмерть с брони. Самых лучших, самых умелых, самых удачливых все равно постигает несчастье. Ты за войну не в ответе. Ты в ответе за совесть свою и за честь. А уж там кого пуля выберет…
Сын благодарно кивал. Не отнимал у отца руку. Чувствовал, как из большой отцовской ладони пригоршнями лилось к нему тепло, крепкая спокойная сила и тончайшая нежность, которой он, как драгоценным снадобьем, врачевал душевную рану.
– Я все делал как надо… Как ты учил… Берег людей… Сам вместе с ними копал, носил, обустраивал… Шел в бой в первой линии… А тут какая-то оторопь, будто снотворное подмешали… Оружие отложил, забылся… Духи из-под земли, как тени… У них подвалы туннелями связаны… Я очнулся, хотел преследовать, а они в туннеле растяжки поставили… Упустил солдат…
Сын чувствовал, что отец слагает с него вину. По-отцовски заслоняет его. Позволял отцу заслонять. Прятался за него, как в детстве, помещая отца между собой и грозным враждебным миром, в котором оказался. Слабел от каждодневных боев, от потерь, от непонимания непомерной, непостижимой тайны, которой оказалась для него война. И отец был благодарен сыну за то, что в злую минуту вызвал его, нуждался в нем, прибегнул к его отцовской защите:
– Понимаю, ты устал, сынок… Который день непрерывно штурмуете… Я тороплю командующего, настаиваю на усилении атак… Посылаю тебя под огонь… Тебе тяжелей, чем мне… Это твоя первая война, самая больная, тяжелая… Я думаю о тебе постоянно, слежу за тобой… Горжусь твоей стойкостью… Нет на тебе вины, а только – непомерная тяжесть войны… Вот и неси ее с честью…
Полковник сжимал руку сына, исподволь разглядывал его большие грязные пальцы, обломанные, с черными каемками, ногти, красный надрез, оставленный чеченским ножом. Вспоминал его детские пухлые руки, розовые ногти, нежные подушечки пальцев, когда они хватали сочный мокрый снежок, слабо сдавливали, и с теплых пальцев, стискивающих сочный комочек, падали прозрачные капли.
Полковника посетила неправдоподобная, сладостная мысль. Если, ступая по хрустящим осколкам чашек, стараясь не задеть стоящие у стены автоматы, подойти к окну, занавешенному мокрым брезентом, и, зная сокровенное слово, осторожно откинуть полог, то увидишь не усеянный воронками сквер, не черные липы, похожие на плачущих вдов, не рыхлую парную ямину, отрытую под деревьями, куда из окрестных дворов свозят трупы чеченцев, чтобы присыпать наспех землей, обменять под вечер на убитых и пленных солдат. А увидишь зимний фруктовый сад, где в розовых яблонях – синее студеное небо и влажные хлопья снега, словно сад расцвел, наполнился душистой белизной, и по этому снегу, оставляя сочные голубые следы, идут жена Валентина и маленький сын. Пробирается за матерью след в след, боясь провалиться в холодную пышную глубину.
Снег выпал в новогоднюю ночь, и проснувшись в остывающей темной избе, обнимая под одеялом теплое плечо жены, он чувствовал, что снаружи, за крохотными оконцами, происходит бесшумное действо. Небо приближается к земле, и старая их изба, и дощатая кровать, где рядом спали жена и сын, и стоящая в углу лесная елка плавно всплывают в небеса. Он угадывал это медленное воспарение, не понимая его природу, верил в его чудесный смысл. Наутро – сад бело-розовый, без единого следа, снег на заборе, на ветках, на ветхом резном наличнике, и в благоухающей свежести, в прозрачной голубизне тонко трепещет хрупкая пролетающая сорока.
Они лепят в саду снежную бабу, катают комки среди яблонь. Сын толкает белый клубочек, старательно наматывает на него липкую белизну. Щека его румяная, как грудь снегиря. Шерстяная варежка, яркая, красно-зеленая, зарывается в снег. Жена Валентина скатала ком, свежий, как сливки, обводит его вокруг коричневой яблони, оставляет за собой желобок, отпечатывая в нем узкие легкие стопы. Он скатал огромный, уже неподъемный шар, который скрипит, проваливается, навьючивает на себя тяжелые хомуты снега, выхватывает белизну до земли, до мерзлой зеленой травы. К шару прилипли опавшие листья яблонь, сухой стебелек укропа, красная ленточка, оброненная женой на осеннюю грядку.