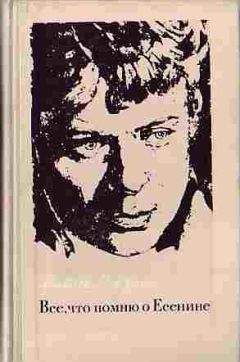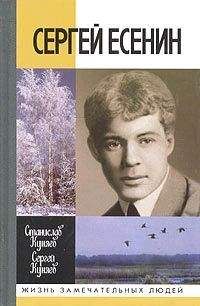Виталий Безруков - Есенин
Не веря своему счастью оказаться рядом за одним столиком с самим Есениным, девицы, раскрыв накрашенные рты, внимали каждому его слову, будто проповеди священника в церкви. Есенину было приятно. Он привык к восторгам и поклонению и любил его, особенно поклонение женщин, впрочем, как и их самих. Он не делал различия по социальному положению и одинаково любил, будь то проститутка или богемная, салонная девица. Есенин забыл про метель за окном, про «кожанку», преследовавшую его весь вечер. И хоть прокуренный воздух «Домино» затрудняя дыхание, он не замечал этого. На душе Есенина стало светло и как-то торжественно, словно он был отныне посвящен в некую «кремлевскую тайну», к которой до этого ему не было доступа…
Он встал. Ему уже было мало внимания сидящих за столом Эрлиха с девицами. Есенин наклонился к одной из них и продекламировал:
Мне сейчас хочется очень!!!
Из окошка Луну обоссать!!!
Девицы зааплодировали.
— Не верите? Ей-богу, сделаю! Извините, я сейчас. — Он пошел между столиками в уборную. Проходя мимо Мандельштама, Есенин остановился и, наклонясь к уху улыбающегося поэта, громко, чтобы слышали сидящие рядом с ним остальные, произнес: — А вы, Осип Эмильевич, пишите пла-а-ахие стихи… И дурацкие! — И, по-идиотски захохотав, ушел за портьеру.
Через некоторое время, возвращаясь из уборной, он опять наклонился и громко крикнул в ухо Мандельштаму:
— Осип, вы никудышный поэт! Вы плохо владеете формой! У вас глагольные рифмы. — И, прежде чем покрасневший от гнева Мандельштам собрался ему что-то ответить, Есенин снова возвратился к своему столику и на весь зал прокричал: — А если судить по большому счету, чьи стихи действительно прекрасны, так это стихи Мандельштама! Нельзя не восхищаться красотой его «Венецианской жизни», его «Ласточками» или «Сумерками свободы»! Я не переврал названий, Осип? — Есенин, обняв, поцеловал его. — Встань, Ося! Поклонись людям! — И первый зааплодировал ему.
— Ты не назвал еще «Пшеницу человеческую», — смущенно раскланиваясь, пробормотал Мандельштам.
— И «Пшеница человеческая», — крикнул Есенин, — чудо! И еще «Песнь о хлебе». Прекрасные слова! Слава Осипу! Поэт и Слово — все равно что утро, роща и птицы. Глуха роща без птиц. Поэт без Слова — улей без пчел. А Слово — история. Слово — философия, натура народа, — продолжал Есенин, вдохновенно торопясь поведать все, о чем он думал, чего не высказал тогда в Кремле Троцкому, о чем болела его душа. — Нет плохих народов! Нет народов неискренних, неталантливых! И ты, Осип, искренен искренностью своего народа, талантлив его талантом. Поэты-изменники — не поэты!
— Подождите, Сергей! Дайте мне сказать! — остановил Есенина тронутый до слез Мандельштам. — Я понимаю. Я понял, о чем хотел сказать поэт Сергей Есенин. Я сейчас прочту строчки из стихотворения… Мне кажется тоже, лучше и искреннее не скажешь, — и, подражая Есенину, рубя рукой воздух, прочел:
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
Это его наивное подражание есенинской манере чтения, его искренность и особенно еврейское грассирующее «Р-р-русь…» привели в восторг публику. Все захохотали. Никогда Мандельштам не получал столько аплодисментов. Есенин обнял его и повел к своему столику. Дамы вскочили, приветствуя его.
Есенин налил всем вина.
— Давай за твой триумф, поэт Мандельштам! — Он выпил и, откинувшись на спинку стула, закурил свои любимые папиросы «Сафо», бросив коробку на стол.
Девицы, жеманничая, закурили тоже.
— Боже! Какой аромат! Сергей Александрович! — выдыхали они изо рта клубы дыма.
За одним из столиков компания поэтов пила вино под нехитрую закуску и наблюдала «братание» Есенина с Мандельштамом. Один из присутствующих, Алексей Крученых, по оценке Есенина, поэт «ерундовый», как человек трусливый и злобный, не переносил любого успеха Есенина. И теперь лицо его исказила гримаса, которую с трудом можно было назвать улыбкой.
— Мандельштам лопух! Развесил уши! «Нет плохих народов!» Ишь ты! Да Есенин — волк в овечьей шкуре! Я лично слышал от Демьяна Бедного — ему Есенин звонил из милиции. «Дорогой товарищ, мы тут зашли в пивнушку, ну, конечно, выпили. Стал говорить о жидах. Вы же понимаете, дорогой товарищ Демьян, куда ни кинь — везде жиды. И в литературе все жиды. А тут какой-то тип и привязался. Вызвали милицию — и вот мы попали!» Демьян попросил Есенина передать трубку дежурному и заявил: «Поступайте с ними по закону! Я таким прохвостам не заступник!» — Крученых счастливо захихикал. — Ну, а дальше — суд! Жаль, меня там не было. Сандро! А ты-то был, расскажи! Расскажи друзьям про этих героев. Как Есенин юлил… Расскажи…
— Да ну тебя на хер! — отмахнулся Кусиков.
— Чё, правда юлил? — недоверчиво спросил Приблудный.
— Слушай ты его, он наговорит. Ты что, Крученых не знаешь? Юлил… Он сидел как струна. Глаза горят. Я боялся, что сорвется, понесет всех. Потому что выступали многие против него, требовали пресечь зло в корне… Демьян Бедный, сука, как ты, Крученый, так же злорадствовал: «Антисемиты! Писателями еще называются… Вам место не в Доме печати, в тюрьме». Ну, Демьян, понятно, мстил Есенину за то, что он его Ефимом Лакеевичем обозвал в стихотворении. Но меня Мариенгоф поразил: с пеной у рта доказывал, что Есенин — больной человек, который не в состоянии отвечать за свои поступки… А? Ни хрена себе, защитил друга? — Сандро осуждающе покачал головой и, вспомнив что-то, неожиданно захохотал. — Лидка Сейфуллина выступила… как… как в лужу пернула: «Есенин, почему вы не сказали, что ругали не только евреев, но и татар, и грузин, и армян?» А Есенин вытаращил свои голубые глаза: «Бог с вами, Сейфуллина, да никого я не ругал». — Он так точно изобразил Есенина, но с грузинским акцентом, что все, кроме Крученых, засмеялись. — В итоге сошлись на том, что все участники скандала — и евреи, и Есенин — были пьяны, и в конце концов их оправдали. Слава богу — гора с плеч! — Он допил свой стакан, закурил.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз, —
Даль повыслала отрока вербного
С голоском слаще девичьих бус.
Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп.
Зашипели газеты: «Татария!
И Есенин — поэт-юдофоб!»
Это стихотворение Крученых прочел желчно, как свидетель обвинения на суде. Он торжествующе поглядел на недоумевающих приятелей: