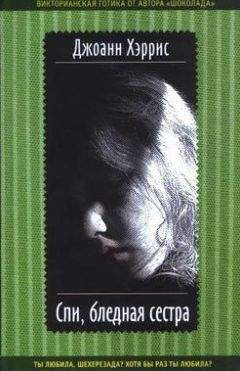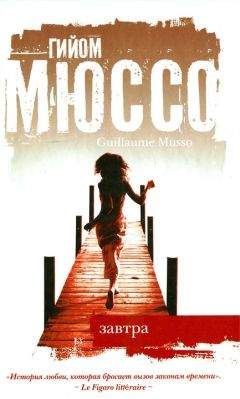Джоанн Хэррис - Шоколад
Что касается Вианн Роше… Я почти и не вспоминаю о ней в последние дни. Даже взглядом не удостаиваю её магазинчик, проходя мимо. Как ни странно, она вполне преуспевает, — несмотря на неурочную для торговли пору и осуждение со стороны благомыслящих элементов Ланскне. Я отношу это за счёт необычности нового заведения. Но прелесть новизны постепенно исчезнет. Нашим прихожанам едва хватает денег на насущные нужды. Они не смогут постоянно субсидировать столь роскошную лавку, которая была бы более уместна в большом городе.
«Небесный миндаль». Уже само название звучит как преднамеренное оскорбление. Наверно, я съезжу на автобусе в Ажен, в агентство по сдаче жилья, и выскажу своё недовольство. С ней вообще нельзя было заключать договор на это помещение. Оно находится в самом центре города, что обеспечивает процветание её магазину, торгующему соблазнами. И епископа должно поставить в известность. Он обладает большей властью, чем я, и, возможно, сумеет оказать влияние. Сегодня же напишу ему.
Иногда я вижу её на улице. Она ходит в жёлтом плаще с зелёными маргаритками. Наряд девочки, даром что длинный, и на взрослой женщине смотрится несколько непристойно. Голову она не прикрывает даже в дождь, и её мокрые волосы блестят, как тюленья кожа. Заходя под навес, она отжимает их, скручивая в длинную верёвку. Под навесом её магазинчика часто толпятся люди. Пережидая нескончаемый дождь, они рассматривают витрину. Теперь у неё в шоколадной электрокамин, стоит не далеко и не близко от прилавка: обогревает помещение, но продукции не портит. Табуреты, пирожные и пироги под стеклянными колпаками, серебряные кувшины с шоколадом на полочке в плите. Не магазин, а самое настоящее кафе. В отдельные дни я вижу там по десять человек, а то и больше. Они о чём-то разговаривают — кто стоя, кто облокотившись на прилавок. По воскресеньям и средам после обеда влажный воздух пропитывается запахом выпечки, а она сама стоит в дверях, руки по локоть в муке, и отпускает дерзкие замечания прохожим. Просто удивительно, скольких горожан она уже знает по имени. Сам я целых полгода знакомился со своей паствой. А у неё всегда наготове вопрос или комментарий относительно их житейских забот и проблем. У Блэро спросит про артрит, у Ламбера — про сына-солдата, у Нарсисса — про его знаменитые орхидеи. Она даже знает кличку пса Дюплесси. Лукавая женщина. Её нельзя не заметить. Любой, кто не хочет показаться грубым, обязательно отвечает ей. Даже я… даже я вынужден улыбнуться или кивнуть ей, хотя внутри у меня всё кипит. Её дочь — вся в мать, носится как угорелая в Мароде с оравой ребятишек, причём все они старше её — кому восемь, кому девять лет. И они относятся к ней с любовью, опекают, как младшую сестрёнку, как некий талисман. Всегда вместе — бегают, кричат, изображают руками бомбардировщики и обстреливают друг друга со свистом и гудением. И Жан Дру с ними, вопреки запретам матери. Пару раз она пыталась не пустить его гулять, но он день ото дня становится непокорнее и сбегает через окно, если она запирает его в комнате.
Однако у меня появились и более серьёзные заботы, mon pere, в сравнении с которыми непослушание нескольких своенравных сопляков — сущие пустяки. Сегодня, проходя мимо Марода перед службой, я увидел пришвартованный у берега Танна плавучий дом — мы с тобой на такие насмотрелись. Отвратительное сооружение: зелёная краска нещадно шелушится, из жестяной трубы вырываются клубы чёрного ядовитого дыма, гофрированная крыша, как на картонных лачугах в марсельских трущобах. Мы с тобой знаем, что это означает. Чем это грозит. Первые весенние одуванчики показали свои головки из сырого дёрна на обочинах дороги. Каждый год они испытывают наше терпение, приплывая по реке из больших городов, бидонвилей или, того хуже, из более далёких краёв — из Алжира и Марокко. Ищут работу. Ищут, где осесть, расплодиться… Утром я выступил с проповедью против них, но знаю, что, несмотря на моё осуждение, многие прихожане — Нарсисс в том числе — окажут им радушный приём, в пику мне.
Эти люди — бродяги. Непочтительные, беспринципные. Речные цыгане, разносчики болезней, воры, лжецы, убийцы, пользующиеся своей безнаказанностью. Позволь им остаться, и они испоганят все наши труды, pere. Испортят воспитание. Их дети станут бегать с нашими, отвращая их от нас. Развращая их умы. Научат их ненависти и неуважению к церкви. Приучат к лени и безответственности. Сделают из них преступников и наркоманов. Неужели люди забыли то лето? Или настолько глупы, что полагают, будто подобное не повторится?
После обеда я ходил к плавучему дому. Рядом с ним уже швартовались ещё два — красный и чёрный. Дождь прекратился, и между двумя последними была натянута бельевая верёвка, на которой болтались детские вещи. На палубе чёрного судна спиной ко мне сидел мужчина, удил рыбу. Длинные рыжие волосы перетянуты лоскутом материи, оголённые руки до самых плеч разрисованы красно-коричневой татуировкой. Я смотрел на плавучие дома, дивясь на их мерзость и вопиющую бедность. На что эти люди обрекают себя? Мы — процветающая страна. Европейская держава. Наверняка для таких людей есть работа, полезная работа, приличное жильё… Почему они предпочитают пристойной жизни бродяжничество, безделье, невзгоды? Или они настолько ленивы? Рыжий на палубе чёрного судна выкинул вилкой пальцы в мою сторону, как бы защищаясь от меня, и вновь принялся рыбачить.
— Здесь нельзя находиться! — крикнул я. — Это частное владение. Плывите отсюда.
С лодок мне отвечали смехом и презрительным свистом. У меня от гнева застучало в висках, но я не утратил самообладания.
— Давайте поговорим по-хорошему! — вновь крикнул я. — Я — священник. Мы наверняка сумеем найти какое-то решение.
В окнах и дверях всех трёх плавучих домов появились лица. Я заметил четверых детей, молодую женщину с младенцем и трёх-четырёх человек постарше. Все в каком-то сером бесцветном рванье — ничего другого эти люди не носят, лица у всех насторожённые и подозрительные. Они смотрели на рыжего, ожидая, что тот ответит за всех, и тогда я обратился к нему:
— Эй, ты!
Его поза — образчик предупредительности и насмешливого почтения.
— Иди сюда, поговорим. Мне легче объяснять, когда я не кричу на всю реку, — сказал я.
— Объясняй. Я отлично тебя слышу. — У него сильный марсельский акцент, так что я едва разобрал слова. Его люди на других судах захихикали, подталкивая друг друга локтями. Я терпеливо ждал, пока они успокоятся.
— Это частное владение, — повторил я. — Боюсь, вам здесь нельзя оставаться. Тут живут люди. — Я показал на прибрежные дома вдоль Болотной улицы. Верно, многие из них теперь пустуют, разваливаются от сырости и небрежения, но некоторые по-прежнему заселены.