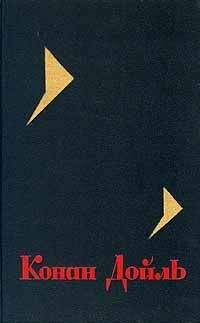Донна Тартт - Щегол
Лезвие ножа погнулось — я слишком сильно упер его в стенку заевшего ящичка, а он был из маминых приличных ножей, серебряный, принадлежал еще ее матери. Я упорно принялся распрямлять его, закусив губу, стараясь изо всех сил думать только о ноже, потому что отвратительные воспоминания о прошедшем дне то и дело вспыхивали у меня в голове. Не думать о том, что произошло, — все равно, что не думать о фиолетовой корове из детского стишка[14]. Но только о ней и думалось.
И вдруг ящик поддался. Внутри была свалка: проржавевшие батарейки, сломанная терка для сыра, формочки для печенья в виде снежинок, такие мама последний раз пекла, когда я был в первом классе, все — вперемешку с мятыми меню еды навынос из «Виан», «Шан Ли Палас» и «Дельмоникос». Я выдвинул ящик до конца, чтобы мама сразу его заметила, когда вернется, добрел до дивана, завернулся в плед и устроился так, чтобы хорошо видеть входную дверь.
Мысли в голове вихрились кругами. Дрожа, с воспаленными глазами, я долго просидел перед светящимся экраном телевизора, в котором тревожно вспыхивали и гасли голубые тени. Даже новостей уже не показывали, одни кадры с ночной улицей перед музеем (который теперь выглядел совсем как всегда, если не считать натянутой вдоль тротуара желтой полицейской ленты, вооруженной охраны у входа и ошметков дыма, то и дело вырывавшихся в белое софитовое небо).
Да где же она? Почему еще не дома? Конечно, она все мне объяснит, да еще и посмеется над моими страхами, так что потом я сам буду думать, что глупо было так волноваться.
Чтобы перестать о ней думать, я изо всех сил стал вслушиваться в интервью, которое уже показывали раньше, а теперь повторяли. Музейный куратор — в очках, твидовом пиджаке и галстуке-бабочке — взволнованно говорил, что специалистов не пускают в музей, к экспонатам и это просто возмутительно. «Да, — говорил он, — я понимаю, что это место преступления, но картины очень чувствительны к любым изменениям воздуха и температуры. Вода, дым и химикаты могут их повредить. Мы сейчас тут с вами разговариваем, а там гибнут произведения искусства. Просто необходимо, чтобы сотрудников музея и реставраторов как можно скорее пустили к месту взрыва, чтобы мы могли оценить уровень ущерба.»
И вдруг — телефонный звонок, ненормально громкий, будто будильник, который выдернул меня из ужасного кошмара. Какая волна облегчения меня накрыла — не описать словами. Я поскользнулся и чуть не приложился лицом об пол — так рванулся к телефону. Я был уверен, звонит мама, но глянул на определитель номера и оцепенел: NYDoCFS[15].
Нью-Йоркское управление по делам — чего, кого? После секундного замешательства я схватил трубку:
— Алло?
— Здравствуйте, — негромко сказал кто-то до жути мягким тоном. — С кем я говорю?
— Это Теодор Декер, — растерявшись, ответил я. — А вы кто?
— Здравствуй, Теодор. Меня зовут Марджори Бет Вайнберг, я социальный работник, я работаю в Нью-Йоркском управлении по делам семьи и ребенка.
— В чем дело? Вы про маму что-то знаете?
— Ты — сын Одри Декер, верно?
— Мама! Где она? С ней все хорошо?
Долгая пауза — ужасная пауза.
— Что случилось? — закричал я. — Где она?
— А твой отец дома? Я могу с ним поговорить?
— Нет, он не может подойти к телефону. Что случилось?
— Прости, но дело срочное. Боюсь, мне действительно очень нужно прямо сейчас поговорить с твоим отцом.
— Что с мамой? — спросил я, вскочив. — Пожалуйста! Скажите только, где она! Что случилось?
— Ты ведь там не один, Теодор? Дома есть взрослые?
— Нет, они вышли за кофе, — ответил я, лихорадочно оглядывая гостиную. Под стулом — крест-накрест лежат балетки. В обернутом фольгой горшке — лиловые гиацинты.
— Отец тоже вышел?
— Нет, он спит. Где мама? Она ранена? Что случилось?
— Прости, Теодор, но я очень прошу тебя разбудить папу.
— Нет! Не могу!
— Прости, но это очень важно.
— Он не может подойти к телефону. Почему же вы просто не скажете, что случилось?
— Хорошо, если твой отец не может подойти к телефону, тогда я оставлю тебе свою контактную информацию. — Голос был мягкий, сочувственный, но все равно на слух напоминал бортовой компьютер ХЭЛ из «Космической одиссеи 2001». — Пожалуйста, попроси его срочно связаться со мной. Это очень важно.
Повесив трубку, я долго-долго сидел, не двигаясь. С моего места были видны часы над плитой — два часа сорок пять минут. Прежде мне никогда не доводилось так поздно быть одному, да еще и на ногах. Гостиная, обычно такая светлая, просторная, искрящаяся от маминого в ней присутствия, усохла до холодной, бледной унылости, как летний коттедж — зимой: потертая обивка, кусачий сизалевый коврик, бумажные абажуры из Чайнатауна и слишком легкие, слишком маленькие стулья.
Вся мебель будто вытянулась, привстала на цыпочки в тревожном ожидании. Я слышал, как стучит мое сердце, слышал все щелчки, перестуки и присвисты огромного старого дома, дремавшего вокруг меня. Спали все. Даже звуки клаксонов и громыхание грузовиков, изредка проезжавших по Пятьдесят седьмой улице, казались еле слышными, нерешительными — редкими, будто неслись с другой планеты.
Я знал, что скоро ночное небо станет темно-синим, в комнату скользнет первый хрупкий, зябкий проблеск апрельского дня. По улице забурчат и загрохочут мусоровозы, в парке застрекочут весенние птицы, по всему городу в спальнях зазвонят будильники. Грузчики, высунувшись из фургонов, будут шмякать толстыми пачками «Таймс» и «Дейли Ньюс» об асфальт возле газетных киосков. Во всем городе матери и отцы зашаркают по домам с растрепанными волосами, в ночнушках и халатах — поставят вариться кофе, включат тостеры, разбудят детей в школу.
А что буду делать я? Какая-то часть меня занемела от отчаяния, я был словно лабораторная крыса, которая во время эксперимента потеряла всякую надежду и улеглась помирать с голоду посреди лабиринта.
Я все пытался прийти в себя. Какое-то время я почти даже поверил, что, если буду тихонечко сидеть и ждать, все как-то само собой выправится. Я так устал, что квартира вокруг меня расплывалась: вокруг настольной лампы нимбом дрожал круг света, пульсировала полоса обоев.
Я взял телефонный справочник. Положил обратно. Звонить в полицию я боялся до ужаса. Да и что она сделает, эта полиция? Я-то знал, спасибо телевизору, что пропажу человека начинают расследовать через двадцать четыре часа после его исчезновения. Я уже почти было убедил себя, что надо ехать в центр и искать ее — ну и пусть, что ночь на дворе, да и наплевать на «Действия семьи в чрезвычайных ситуациях», — когда тишину взрезал оглушительный звон (дверного звонка!) и сердце у меня подпрыгнуло от радости.