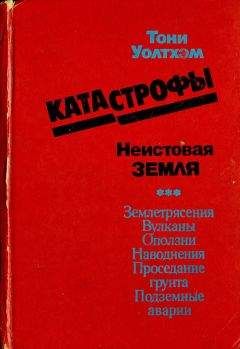Александр Торин - Осенние рассказы
— Черт его знает, это конечно не Европа, — соглашался я, но все-таки ты неправ.
— Европа, — насмешливо фыркал Леня. — Европа мертва. Америка. Только Америка!
— «Бог сейчас в Италии», — вспомнил я «Иудейскую Войну» Фейхтвангера. — Брось ты, ерунда все это.
* * *Леню я встретил двадцать лет спустя в Лос-Анжелесе. Он жил в маленькой съемной квартирке с грязными синтетическими коврами, облысел, нажил брюшко и приобрел откуда-то противный местечковый акцент. Работал Леня санитаром в больнице, он дежурил по ночам (за ночную смену больше платили). Он считал Лос-Анжелес лучшим городом в мире и старательно делал вид, что доволен своей судьбой.
Я не стал его расстраивать, и даже не сказал ему, что Лос Анжелес отвратителен. Каждый человек кузнечик своей судьбы.
* * *— Товарищи студенты, правительственный кортеж приближается!
— Ура, — нестройно грянула толпа, эфиопские флажки замелькали по обоим сторонам проспекта.
Появились черные правительственные ЗИЛы, припорошенные свежим снегом. За тонированными стеклами сидело что-то лилово-черное и махало ладошкой.
— Ура! Да здравствует дружественный народ Эфиопии.
— Эфиоп, твою мать, — брякнул кто-то.
— Разговорчики! Да здравствует товарищ Менгисту Хайле Мариам!
— Ура!
— А чем, скажем, отличается Менгисту от Мангусты?
— Товарищи студенты, с энтузиазмом машем флажками дружественного эфиопского народа.
Кортеж правительственных машин направился по Каменному мосту в Кремль, мы начали расходиться. И тут замела настоящая метель.
Я бросил снежок в Леню, сбив с него шапку. Он начал материться и бросаться снежками в меня, потом Дом на Набережной скрылся в белой пелене, и остались только чугунные решетки и фонари.
И я почувствовал то, что чувствовал несколько раз в жизни — единство прошлого и будущего, дежавю, это странное ощущение того, что все уже было и будет: и черно-лиловый Менгисту Хайле Мариам, как и Хайле Селлассия первый, давно ушедший в небытие, и эта метель, и Пушкин с прадедом Ганнибалом, и призрачные дореволюционные извозчики, летящие к Кремлю, и старые фотографии, которые я буду рассматривать в далеком будущем, и вечно молодая Инна, и вкус ее губ, и эта метель, которая в конце концов покроет и смешает все и скорее всего приснится мне накануне моей смерти.
И еще я понял, каким-то шестым чувством, что вместе с Менгисту промчалось в черной машине прошлое и начинается будущее, которое мало чем будет отличаться от прошлого, по крайней мере вряд ли будет лучше.
10.В начале декабря того же 1980 года в доме на площади Восстания, на 22 этаже случилась свадьба моего однокурсника с моей же однокурсницей. Свадьбе предшествовала обычная суета: церемония в Грибоедовском ЗАГСе с непременным свадебным маршем и советской тетенькой в стиле ткачих-ударниц производства, напутствующей молодоженов. Потом было застолье, танцы под пластинку, многочисленные дети и вдруг в толпе гостей появилась Инна. Она была со смазливым самодовольным парнем в кожаной куртке, располнела, и как мне показалось, была беременна.
— А это моя троюродная сестричка, Инночка, знакомьтесь, — радостно сообщил счастливый новобрачный.
— Мы знакомы, — сухо сказал я.
— Вот как? Откуда? — допытывался мой однокурсник.
— Так, вместе английским занимались…
Я вышел на лестницу покурить и заметил, что руки слегка дрожат. Докурив сигарету я ушел домой. Больше я Инну не встречал, не знаю, что с ней стало. Вроде бы она родила ребенка и взяла академический отпуск.
В прошлом году в Калифорнию заезжал мой однокурсник, который был на той студенческой свадьбе. Мы уговорили бутылку коньяка, напились кофе и в расслабленно-возбужденном состоянии начали вспоминать молодость.
— Кстати, помнишь… — он назвал бывшего молодожена. — Вроде бы Шурик в Канаде теперь неплохо устроился. И еще сестренка его троюродная с мужем, может быть помнишь ее, рыженькая такая, тоже в нашем институте училась. Кстати, у меня для тебя сюрприз, вот фотографии с его свадьбы.
Какими же мы были странными четверть века назад, я не мог узнать самого себя, и друзей, хотя помню все, как будто это было вчера.
Инна тоже попала на эту фотографию, на ней она осталась молодой. Я хотел было попросить у него эту снимок, но решил, что это ни к чему. Лица ее я уже не помню, только светящиеся глаза, а это самое главное и бывает считанные разы в жизни.
11.Числа десятого декабря 1980 года я собрался с силами и наконец поехал навестить родителей Коли. Я ехал на троллейбусе мимо серых домов, потом стоял около знакомого мне подъезда. Мне вспоминался зимний вечер, альбом «Queen», громыхавший в комнате, Коля, с шеей обмотанной шерстяным шарфом и Яна. Комок стоял в горле, сухонькие старички поили меня чаем с засохшими миндальными пирожными, и я чувствовал себя неловко.
Судя по рассказам Колиных товарищей, они проезжали какой-то полуразрушенный кишлак, и древний аксакал бросился навстречу машине, крича «Урус, урус» и показывая на подбитую машину и лежащие рядом тела убитых солдат. Коля выскочил из УАЗика и тут же был прошит автоматной очередью. Партизанская война…
После чая Колины родители усадили меня на диван, и начали показывать альбом с фотографиями. Я смотрел на черно-белые фото школьного выпускного вечера, узнавая ребят, собиравшихся в этой квартире чуть больше года назад, потом обещал старикам помочь, если что-нибудь понадобится. Они хотели поехать вместе со мной на кладбище, но этого я уже не мог выдержать, и извинившись ушел.
На кладбище я поехал тем же вечером. Оно было большим, расположенным на самой окраине Москвы, где-то за Рязанским проспектом. Автобус долго колесил между безрадостными пятиэтажками и чахлыми деревцами, посаженными вдоль дороги. Для того, чтобы добраться до Колиной могилы, надо было пройти по аллее, и я с удивлением замечал тут и там белеющие памятники на свежих могилах ребят, погибших в Афганистане. Количество могил явно не соответствовало бодрым официальным сводкам, согласно которым за все время ведения боевых действий в братской республике погибло не более ста человек.
Коля лежал под маленьким обелиском с красной звездочкой. Я постоял около окрашенной черной масляной краской ограды, в последний раз попрощавшись с ним, потом закурил сигарету, и вышел с кладбища через случайно обнаруженную мной ржавую калитку, выходившую на стройку. Экскаватор, рыча и чихая черным дымом, поднимал ковшом замерзшую землю, и мне пришлось перепрыгивать через бетонные трубы и вырытые траншеи.
За стройкой, на первом этаже кирпичной пятиэтажки, располагался винный магазин, и тогда я впервые в жизни распил бутылку с совершенно незнакомыми мне до этого мужиками. Выпитое подействовало на меня, и, уйдя в глубь жилого квартала, я сел на скамейке около детской площадки, и закурил. Незнакомая мне жизнь медленно текла вокруг, из подъездов выходили люди, тянулись из магазинов женщины с сетками. Район этот был безрадостным, запущенным и навевающим тоску.
— Не подходи, не подходи к нему, Катя, — вдруг истерически вскрикнула женщина. — Алкоголики проклятые, больше им сидеть негде.
Я поднял голову. Широкая, не по летам расплывшаяся женщина с бессмысленным лицом поставила на соседнюю скамейку сумку, из которой торчала покрытая глиной морковь. Рядом с ней женщиной стояла девочка с куклой, одетой в выцветшее ситцевое платьице.
— Я вам что, мешаю что-ли? — Неожиданно злость поднялась во мне. — И с чего вы взяли, что я пьян?
— Ты у меня повыступай, — баба перешла в наступление. — Сейчас мигом милицию вызову, заберут в вытрезвитель, и дело с концом! А ну, вали отсюда!
— Никуда я не пойду, — рассудком я понимал, что связываться со скандальной бабой глупо и смешно, но меня начал бить нервный озноб, мне стало обидно за Колю, лежавшего в полукилометре отсюда, будто кто-то осквернил его память. — Вы не имеете права меня оскорблять, а тем более прогонять отсюда. Ребенка бы постыдились!
— Катя, пойдем отсюда, — баба решила со мной не связываться. Она еще что-то зло прошипела в мой адрес через плечо, и на душе стало совсем паршиво. Я встал, и, доехав до метро, сел в вагон, идущий в центр, вылез на Пушкинской площади, и спустился к Кремлю, пытаясь раствориться в толпе, шумящей и затекающей потоками в магазины. Потом я свернул на Герцена и, дойдя до Тверских ворот, углубился в любимые кварталы, обойдя их несколько раз, пока не выскочил на Садовое кольцо, и, наконец, поехал домой. Город обтекал меня, я не мог включиться в жизнь, словно смотрел кино, в котором сам играл главную роль.
12.Через десять лет, голодной зимой 1990 года я уезжал из Москвы. А день в день ровно через четверть века, будто было в этой десятичной системе счисления дней и лет мистическое содержание за пределами лунных и солнечных циклов, я летел домой над безлюдными территориями королевы Виктории, черными водами океанов, замерзшей Гренландией и фиордами Норвегии.