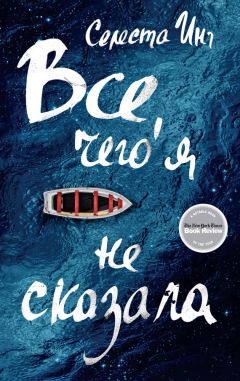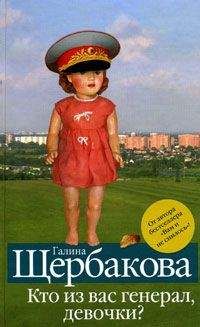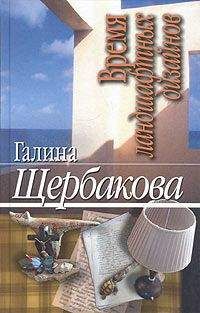Галина Щербакова - Уткоместь
— Ваше поколение, — смеется Катя. — А все не так. Знание тут. — Катя подняла ладошку и как бы сдунула с нее перышко. — Знание всегда рядом, оно никогда с тобой не играет в прятки и тем более не побуждает делать лишнюю работу. Типа рыть. Надо слушать и слышать… Надо дышать в пандан ветру. Все уже было, и будет то же… Оглянись во вчера — увидишь завтра.
— Это чья философия — бедуинов или бабуинов? Или кто там бьет в колотушку?
— Не придуряйтесь дурой, тетя Саша. Ваше поколение гибнет оттого, что вы назло всем слепы и глухи. Вас жалко до спазм. Я боюсь за близнецов. Они остаются с двумя безумными поколениями — отцов и дедов. Одни будут сажать их на коней, другие будут с них стягивать… Разорвете мальчишек. Тетя Рая совершила побег. Не дай бог, конечно, но в своей темноте она определенно зрячее вас.
— Ты вот это все говоришь, а я думаю об Алеше. Вдруг он не такой, как ты? Он, хочется думать, не считает нас монстрами.
— А я разве считаю? Я вас люблю всех. Но вы тяжелобольные. Гораздо тяжелее тети Раи. Вы сумасшедшие с правом голоса и созидания.
— Как бы ты с нами поступила, с такими?
— Отдала бы вас животным на воспитание. Пусть бы вас облизали собаки, отогрели кошки. Птички попели бы вам песни. Муравьи научили работать, а трава — слушать. Люди так далеко ушли от зверей в своем блуде и зле, что мое предложение антигуманно для них. Есть фауна и флора. Божественное совершенство. И мы. Враги всего и всех. Нет, не надо вас к животным. Вымирайте, как считаете нужным, по вашим заветам, из которых ни один не направлен на сосуществование ни с подобными себе, ни с инакоживущими.
— Ты не боишься рожать с такими мыслями? Ты же носишь обычное дитя!
— Конечно, боюсь. Но где-то там живут иначе. Я хочу притулиться к иным и притулить свое дитя.
— А какое место возле тебя у Алеши?
— Я на него обопрусь. Честно… Я боюсь одиночества.
Мы расходимся в разные стороны, помахав рукой. Похожие в толпе на всех других. Но я давно знаю: это кажимость. Нет и не может быть похожести. Похожесть — горестный примитив, за который мы цепляемся, как за родство, от которого надо бечь, как бегу я сейчас в метро, оставив Катю у трамвая. В мире нет простого. А человек — самая сложная система, которой и овладевать надо сложным инструментом.
Примитивизм радостно обозвался «концом света», освобождая нас от ответственности за далеких себя. Мы же будем жить и после конца. Как жили. После чумы жили, после войны, после Чернобыля. Мы будем теми, кто от лени, бездарности, подлости ждет конца как спасения от решений и поступков, а он возьми и не приди. И мы остаемся теми же, но еще и обиженными, что приходится жить. Я тоже хочу притулиться для утешения. Любая гора сгодится. Любая старше и многое видела. «Помоги мне, гора», — скажу я ей, но знаю, что только играю в эти мысленные игры, а на самом деле цепью прикована к той жизни, которая и дурна, и некрасива, но во всем своем уродстве она мне дорога, и я люблю в ней все: мужа, сына, чужое дитя, которое будут клонить к иному, несчастье Раи, ее двуликость, люблю этого виноватого ни в чем военного, бросившего мне в пакет деньги, я даже Киркорова люблю за простоту и хитрованство, за крупность и мелкость… Ну что поделать, если это все мое! И я не хочу ему конца.
Я по-хозяйски толкаюсь в метро, прижимая ценный пакет, который я отдам, конечно, Ольге. Кому же еще? Кто из нас самый практичный?
Я — Ольга
Эта идиотка привезла мне взяточные деньги. Как можно было их взять? Как? Теперь у него развязаны руки, и что бы он ни говорил, я не верю его русскому языку. Деньги надо вернуть со свидетелем. Тогда, и только тогда можно быть спокойными за мальчишек.
Но Саша категорически уперлась. Она сказала, что это тот случай, когда можно брать на веру.
— Ты же его видела! Видела!
Я его видела. Я даже с ней в чем-то согласна, но мне нужна десятикратная прочность гарантий. Я боюсь жестов, тем более мужских. Они всегда незаконченные и провисают по дороге.
А потом меня осеняет. Взятка как некая самость существует в пакете с рожей не Рафаэля. Взятка должна ею остаться, ибо лепилась, складывалась, множилась именно как грешная мзда. У нее нет другой, кроме криминальной, цели. Ее просто надо переложить в другие руки. Руки писательницы Нащокиной. И это еще важнее, чем вернуть военкому, потому что только Нащокина может сообщить, что убить ее хотела Раиса. Сокрытие этой правды стоит денег. И может быть, еще и больших, чем лежат у меня на стуле.
Нащокину надо кормить с ложечки, но нет лишних рук. Я предлагаю свои. Ложечка стучит о желтые лопатистые зубы писательницы. Кажется, я что-то при этом приговариваю. В ее глазах насмешка, вполне осознанная, даже умная. Абсолютно без зла. По моей логике, быть бы ей жалкой и потерянной от беспомощности и зависимости от подносимой ко рту ложки. Но нет, ничего похожего. И я вступаю в арию, наклоняя ложку чуть боком, чтоб свалить синий ком овсянки на мокрый и дрожащий язык.
— Полина Сергеевна! — говорит мною альт Башмета. — Вы писатель — значит, понимаете: плохой мир лучше хорошей ссоры. Моя подруга тоже лежит в больнице, так же как и вы, только ей много-много хуже. — Я кручу вынутой изо рта ложкой уже где-то возле виска, и остатки синей гадости плюхаются мне на шею. Не важно, не важно… Я делаю вид, что каша на моей шее — дело привычное. — Мы возьмем на себя все расходы по вашему выздоровлению. В сумке, — показываю я, — деньги. Когда все оклемаемся, соберемся за общим столом, и вы познакомитесь с большой, доброй, хотя, скажу честно, и не без нелепости семьей, где столько любви. У них даже мухи выгоняются в окно, потому как Божьи твари.
Каша холодеет и стынет на шее. Стынут и глаза Нащокиной. Они у нее стали сине-багровые от пролившейся в роговицу крови.
Приходит сестра, забирает тарелку, я иду в туалет, чтоб вымыть шею и окончательно стать дурой с вымытой шеей.
Когда я возвращаюсь, меня отзывает сестра и говорит, что у писательницы была накануне милиция и та подала заявление на женщину, которая ее ударила.
— Как — подала? — тупо спрашиваю я.
— Сама напечатала на портативной машинке одним пальцем, но очень быстро.
— Вы случайно не читали это сочинение? — на всякий случай интересуюсь я.
— Не случайно, а намеренно, — говорит сестра. — Я подписала его как свидетель.
— И что там? — спрашиваю я.
— Ужас! — восхищенно говорит сестра. — Но не имею права рассказывать.
Я возвращаюсь в палату. Пакет с деньгами и стул лежат на полу — значит, исхитрилась жертва вечерняя двинуть стул ногой.
Беру его в руки и говорю:
— Хрен ты чего от нас получишь, старая сволочь. Каждая буква твоего доноса будет капать кровью исключительно на тебя.
Мне хочется ее убить. Боже, как я понимаю Раису, но тут я вижу, что она показывает мне язык, весь такой красный, в плоских горошинах овсяных хлопьев. Она смеется надо мной, сука. А у меня уже была замечательная возможность забить алюминиевую ложку с кашей ей в горло. Нащокина что-то и говорит. И через кашу, через паралич я все-таки ее понимаю.
— Пляди вы, — произносит она. — Все пляди.
Потом она с трудом сглатывает, хочет сказать что-то еще, но теряет сознание. Я кричу сестру, моля Бога о смерти русской советской писательницы Полины Нащокиной. Я прошу для нее не ада — райских кущ и чтоб те, кто озабочен пришельцами с земли, сделали ей хорошо и дали все, что она попросит.
Но она оклемалась через пять минут, а меня выставили.
Я ушла с денежным пакетом. Навязывать эти деньги недобитой тетке — не мой стиль. И я иду по улице, размахивая Киркоровым, никому в голову не придет, что лежит в нем конверт с тремя тысячами долларов. Иначе срезали бы на ходу. Но такими деньгами махают очень богатые, а я при всем своем прикиде такой не кажусь. Я — немолодая леди, там, за углом, стоит моя серенькая мышка, под стать мне — «жигуль». Мне надо ехать по Катькиным делам. Перевозить дурачий ящик с книгами. Вот. заеду на какой-нибудь пустырь и скину ящик к едрене фене. Хотя из всех нас я самая ненормальная чтица. И книги покупались мной, не Катькой. Это с моих рук она ела и Гарсиа Маркеса, и Марселя Пруста, и Теннесси Уильямса, и Беккета, и Олби… А сейчас охает над ними, будто сама их родила. Не сама, дочь, не сама. Это я тебе их скормила, рассчитывала, что вырастешь — станем говорить на одном языке. Но сначала папа твои отплыл на утлой лодчонке с нешамаханской царицей, потом я хрустнула костями и пошла искать того, кто станет всем. И хоть бы один стоил больше, чем стоили мазилки для начинающихся морщин. Выяснилось: единственная прочность на свете — это деньги. Я хорошо стала зарабатывать. Время было жирное. Икру черную ели как полоумные. С мясом выдирали засранные толчки и впячивали вместо них горшки нежнейшего колера. К новому яично-голубоватому искали в жены ванну и раковину. Евроремонт был еще завтрашним днем. Еще более жирным. Но я с ума не спятила. Стены не передвигала. Я обогатилась техникой, «жигулем», железной дверью. Я мыслила себе деревянный сруб из толстых бревен на солнечном пригорке. Я так быстро к этому шла, что ни хрена не заметила. Ни прыщеватого малого, который таскал Катьку на выставки, неведомые моему поколению. На одну они пригласили меня. На нас из будки залаял мужик. Он был не сумасшедший (хотя как он мог им не быть?), просто это был перформанс. Я три дня учила слово. Выучила. Сходила с детьми на мужика-собаку еще раз. Он сидел у будки. Член его висел печально и дрожал от холода, норовя втянуться вверх в густую рыжую шерсть новатора художника. Мне показалось, что все посетители только туда и смотрели. И моя нежная дочь тоже, и губы у нее при этом были мокрыми и оттопыренными. Я взяла ее за руку и отвела подальше от собачьей будки. «В следующий раз принесу ему кость», — сказала я. «Он любит немецкий шоколад», — это нас догнал знаток перформанса. Он норовил встать между мной и Катькой, но я держала дочь крепко, а было уже поздно. Расквашенный рот моей дитятки уже объяснил миру, что член человекособаки ее не потрясает. Но в ту минуту я отогнала мысль как противную. Я была уверена: отобью дочь у мальца, не стоящего доброго словца, я чувствовала тогда себя легко побеждающей и острой на язык, почему и ляпнула, что, мол, песику надо сшить гульфик, а то, неровен час, отморозит яйца. Катя выдернулась из моей руки и сказала: «Если ты, мама, не понимаешь концептуализм, то это еще не повод пошлить…» — «Не обижайся на маму, Катя. У нее нормальная реакция. — Прыщеватый старался быть человеколюбивым. — Люся, жена человекособаки, рассказывает, что от холода у него выросла эрекция. Ведь у волков и медведей нет гульфиков». — «Странно, — отвечаю я, — я была убеждена, что есть. У волков — бязевые. А у медведей — байковые. А шьют их слепоглухонемые лисицы». Малец хлюпнул носом и сказал, что ценит мой юмор.