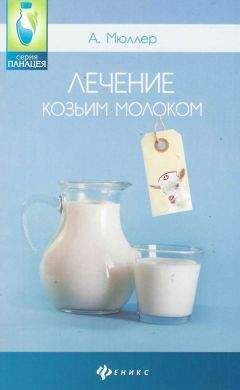Виктор Свен - Бунт на корабле
И тут я вспоминаю скворцов утренних. И ласточек тех, давних. И уже во мне стыдливо гаснет возбуждение, уже мне не надо, не к чему спешить в бункер, потому что передо мной всплывают мутные глаза уже давным-давно умершего Акима и звучат грозно сказанные слова:
— За все ответит человек…
Мне уже не нужен бункер. Я иду туда, куда я должен пойти. И вижу темные шеренги скворцов на проволоках и проводах. А когда подхожу ближе, даже совсем близко, я говорю сам себе: «Вот как их стало мало»… Я не обманываю себя тем, что скворцы улетели. Нет. Я знаю все. И пугаюсь этого знания, и в глазах моих холод от бесчисленных темных пятен на белом снегу. Это лежат замерзшие скворцы, те, у которых застыла кровь и чье маленькое птичье сердечко остановил мороз.
Пристально, как на некие таинственные знаки, гляжу я на темные пятна по белому снегу. Что они обозначили? Чья судьба отмечена в этих письменах?
Мне захотелось кому-то и что-то крикнуть. Но я не крикнул, так как вдруг все мое внимание остановил один скворец. Он сидел на земле у совсем голого куста и бессильно пытался оторвать от почвы наглухо припаянный морозом сухой лист. Жалкими, ненужными и бесцельными усилиями этот скворец пытался поднять лист, веря в то, что под ним найдется живой червяк…
* * *Бокалы еще не налиты. И мне немножко, совсем чуть-чуть, грустно, и потому я вытащил свои старые записки, и посмотрел в них, и остановился на ласточках и скворцах.
Судьба их была как-то связана с нашей странной жизнью. Потому я и рассказал не о людях, а о птицах, наших русских, хороших птицах, разделивших с нами русскую судьбу…
… А теперь:
— С Новым годом!
Франкфурт-Майн, 1950.
Воробушки
Я познакомился с этим человеком случайно, в парке. Мы не сказали бы ни одного слова друг другу, если бы я не обратил внимания, что он всегда сидит на одной и той же скамье и что около него постоянно возятся воробьи.
Во всяком случае, я прежде всего заметил этих шумных и бойких задорных воробьев и только потом человека. Человек бросал крошки хлеба и с серьезной задумчивостью следил за птичьим скандалом.
Я сел рядом. Человек посмотрел на меня. Очень скоро я узнал, что он русский. А через несколько дней он мне серьезно сказал, что воробьи… Да, он так и сказал, что к воробьям у него особое отношение, что с их жизнью таинственными нитями связана и его, человеческая, жизнь.
Я ухмыльнулся. Так как мы уже были коротко знакомы, то он вдруг с досадой взмахнул рукой и сердито проворчал:
— Да, связана… А как и что, хотите послушать?
Я выслушал эти три рассказа. Потом записал. И без всякой улыбки предлагаю вниманию терпеливого читателя…
1. КУСОЧЕК ХЛЕБАТеперь это многим может показаться непонятным и странным, но было время, когда кусок хлеба на столе радовал глаз. И когда этот кусок был съеден, становилось как-то грустно и даже немножко тревожно: зачем я его съел с двумя стаканами кипятку? Почему не оставил немножко на вечер?
Или — вот: косым взглядом провожают небольшой кусочек, завернутый в бумагу, и отправляемый мною в карман. И говорят: «Опять?»
Короткое и пустое слово, но у меня вздрагивает сердце. И я краснею…
Потом я приспособился и уже умудрялся все это проделывать так, чтобы никто не видел. И чтобы не было произнесено: «Опять?» И чтобы все было мирно и без разговоров.
С этим кусочком хлеба я шел вот в этот же самый парк. Он совсем невдалеке от нашего дома. Не больше пяти минут ходу.
Тогда в парке было пусто, а по ночам темно. Это теперь тут такое оживление и уже с вечера полыхает неоновым светом вывеска ресторана Одеон…
Громадные платаны и заросли кустов отгораживают парк от беспокойной улицы. Улица дребезжит трамваями и пугает вскриками автомобильных сирен. Совсем у кустов скамьи, и тут же, через дорожку, пруд. Из воды иногда тяжело выскакивает карп и неумело, боком, валится назад.
В конце аллеи всегда пусто. Потому я шел туда, к очень неудобной скамье. Как только я садился, на дорожке, невдалеке от меня, с удивительной торопливостью начинали собираться воробьи. Может быть, это моя фантазия, мое желание создать себе на чужой земле сказку, но я серьезно думал, что воробьи меня знают, ждут и догадываются, что я в чем-то виноват перед их воробьиным племенем.
Так это или нет, разве в этом дело?
Воробьи боком подскакивают, выгибают шайки, черными пятнышками глаз посматривают, словно подталкивают: «Ну, перестань… пришел, ведь… вот и мы здесь».
Я вынимал свой сверток. Что Плюшкин? Во мне было десять Плюшкиных, когда я крошил хлеб и понемножку бросал воробьям.
Суматоха поднималась страшная. Они устраивали скандал и, бывало, затевали безобразную драку из-за кусочка, который всем им, неизвестно почему, казался особенно вкусным. Они тянули его в разные стороны, бестолково взмахивали крылышками и поднимали пыль. Этим пользовался какой-то самый расторопный из них. Обманув всех, он неожиданно хватал корочку и скрывался в кустах. Остальные пытались его преследовать, но скоро возвращались назад.
Я расходовал свои запасы очень осторожно, потому что здесь еще не было самого нужного, кого я поджидал, и которому мне всегда хотелось подсунуть самый лучший кусочек. Нет, тот, ожидаемый воробей, не был каким-то особенным красавцем и умницей. Наоборот, он был несчастным инвалидом. На правой ножке у него не было пальчиков. Потому, опускаясь на песок, он неуклюже валился на бок и только после этого с трудом утверждался на левой ножке. Правая была уродливо изувечена, выглядела обгоревшей спичкой, очень напоминающей крохотный деревянный костыль.
Этот воробушек был худеньким и вечно вывалянным в сажу. Я все это объяснял тем, что у него нет семьи, нет постоянного местожительства и что по бедности своей инвалидной ночует он в первых подвернувшихся развалинах.
И вот он появлялся, этот воробушек. Прихрамывая, опираясь на костылек, он приближался к шумней и веселой толпе своих соплеменников, опускался на брюшко и начинал собирать мельчайшие крошки, на которые никто не обращал внимания. На большее ему и нельзя было рассчитывать. Разве мог он спорить со здоровыми, подвижными и сильными воробьями, которые без стеснения тащили у него из под носу то, к чему он с таким трудом приближался.
Это было несправедливо и я начинал хитрить, бросая крошки так, чтобы они падали совсем близко к скамейке. Инвалид меня понимал. Те, шумливые и задиристые, побаивались моих ног. А этот, на костыльке, хром-хром, приближался так близко, что я сыпал крошки прямо на его спинку.
Сев, вытянув свою культяпку, инвалид клевал и, даже, поглядывал вокруг, явно издеваясь над своими трусливыми родственниками. Потом воробушек встряхивал крылышками, благодарно чирикал и улетал. Сыт, думал я, и следил за его полетом. Он направлялся к пруду и там пил воду. Потом возвращался, но уже так себе, чтобы посмотреть на оживленное суетливое общество или подремать у кустов.
— Вот и все! — говорил я, вытряхивая из бумажки остатки крошек. — До завтра…
Воробьи разлетались. У них, видимо, где-то еще были свои дела. Поэтому я не обижался и думал, что все, только что здесь происшедшее, закончилось хорошо и правильно…
2. ОДНАЖДЫ ЗИМОЙВот, говорят, охотник… Жестокое занятие… Ну, а если в крови человека эта страсть, что тогда поделать? Это не мною выдумано, не моя прихоть. Это пришло ко мне издалека. В Европе, может быть, меня и не поймут. У нас, в России, это обыденное, это прямо-таки как у другого музыка. Музыкой такому весь мир заслонен. Он живет дни, подгоняет эти дни, чтобы приблизиться к часу, когда услышит Бетховена или Грига.
Охотник подгоняет лето, чтобы скорей прийти зиме, когда ноги сами знают дорогу в древний лес. И уже не глаза, сердце прислушивается к шорохам, сердце смотрит вокруг.
У человека короткая жизнь. Но когда к природе идет человек, сливается с нею, не думает он об этом. Природа приняла его, признала его своим и отдала ему часть своей вечной жизни.
Я был охотником. У меня впереди было много дорог не исхоженных, много патронов не расстрелянных. Конца-краю не было видно… как вдруг переместилось все, изменилось, пропали радостно знакомые лица старых сосен и ласковые лапы елей… Потому что в солдатском маскировочном халате надо было идти против других, тех, которые были тоже в маскировочных халатах, но совсем не похожих на наши.
Война — дело обычное. Через убитого перескакивают и бегут дальше. На корчи раненого посмотрят и подумают о санитаре. И бегут дальше, и кричат что-то непонятное, и тоже падают.
У, как же это страшно, как же это плохо человеку с разорванным пулей телом остаться брошенным и тяжело думать, что еще многие пути-дороги так и останутся не пройденными.