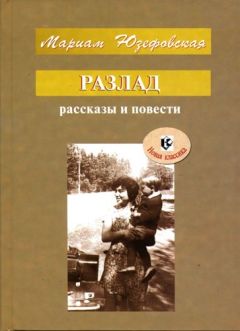Мариам Юзефовская - Господи, подари нам завтра!
– Буклете (колечко), – ласково улыбнулась Клодин, – подарок мать из Франции.
Вначале мне почудилось, что ослышалась.
– Твоя мать во Франции? – робко уточнила я.
– Да, – печально качнула головой Клавдия, и ее округлый подбородок с едва заметной ямочкой вдруг дрогнул.
– Тетя Элен – сестра отца. Туберкулез. Умер.
Словно не надеясь на свой русский язык, она надсадно закашлялась, потом откинула голову и закрыла глаза, объясняя жестами историю своего отца. Но тотчас встрепенулась:
– Есть еще два брат во Франции. Мать нашла новый муж. Мой мать фланёр, – она произнесла слово фланёр, в точности копируя тон и манеру Елены Сергеевны, но «р» у нее покатилось и рассыпалось точно горсть стеклянных шариков.
Сблизило ли нас сиротство? Нет! Быть может, потому, что сиротство этих детей не было угрюмым и скудным, как у нас. Это было сиротство с диковинными подарками из Франции на Пасху и Рождество, день рождения и день ангела. С яркими нарядными открытками, обсыпанными блестками, из разворота которых внезапно выскакивала фея или бородатый Пэр Ноэль. С цепочками, колечками, брошками, значками и всей той яркой мишурой жизни, которая так нужна детям.
У нас с сестрой все было по-иному. Наш отец ежемесячно пересылал нам едва ли не весь свой оклад. Но на сером измятом листке перевода, кроме лиловых штампов и адреса, была лишь короткая приписка: «Целую, папа».
Тетка Маня вздыхала, беря из рук почтальона увесистую разноцветную пачечку. Помусолив палец, сбиваясь и шевеля губами, долго, по многу раз пересчитывала деньги. Аккуратно отделив одну четверть, она оставшиеся прятала в потертую сумочку и, крепко зажав ее под мышкой, шла в сберкассу.
– Если вдруг что-нибудь со мной случится, девочки будут иметь копейку на черный день, – тихо, вполголоса делилась она своими заботами с Сойфертихой. Та тотчас пугалась:
– Не дай Б-г, что вы такое говорите! Нашим врагам на голову наши цорес (беды), – потом, чуть помешкав, одобрительно кивала.
– За душой всегда должна быть какая-никакая копейка.
С раннего детства тетка готовила нас к черному дню. И потому сестра донашивала мои старые платья с неумело откромсанным и грубо подшитым подолом, штопанные-перештопанные чулки, траченный молью меховой капор. Мне же покупалось все на вырост.
Пальто, школьная форма и даже ботинки. Я шлепала в этих ботинках по лужам, играла в классы и маялку. Но сносу им не было. Я ненавидела их с дня покупки, эти черные мальчиковые ботинки с широкими рантами и железными дырочками для шнурков. Я мечтала о легких лаковых туфельках с тоненькой перепоночкой.
Как догадалась об этом Елена Сергеевна? Не знаю. Но однажды она поставила их передо мной.
– Надень. Это мать прислала Клавдии. Но они ей малы. Эта женщина, – она всегда говорила об их матери «эта женщина», при этом глаза ее странно темнели, углы рта брезгливо опускались вниз, – эта женщина, – повторила Елена Сергеевна, и в голосе прозвучала недобрая насмешка, – она забывает, что ее дети растут. Она боится этого. У молодой женщины не могут быть взрослые дети.
Не знаю почему, но мне она поверяла свои заботы и печали. Вы скажете, что между пожилой женщиной и девочкой не может быть дружбы. Но это было, было, было. И этого у меня никто никогда не отнимет.
– Ты знаешь, – сказала она как-то раз с безысходной печалью, – они совсем не похожи на моего брата. У них французская кровь.
Особенно Мишель. У Клодин руки отца.
Первый раз за все время я услышала, как она назвала детей их французскими именами, точно напрочь отсекла в них русское начало.
– У вас никогда не было своих детей? – с запинкой, нерешительно спросила я. Чувствовала, что стучусь в ту дверь, которая для чужих заперта раз и навсегда. Но осмелилась. Лицо Елены Сергеевны тотчас стало угрюмым и замкнутым. Мне почудилось, что рядом со мной – чужой человек. И стало страшно. Мучительно покраснев, тихо сказала:
– Простите меня.
Она пристально, изучающе посмотрела мне в глаза, словно решая трудную задачу.
– Была революция, потом война. Голод. Я долго болела. Михаил Павлович с трудом нашел меня. Они служили с братом в одной полку. Потом Франция. Это после все наладилось, а сперва было очень трудно, – нехотя, точно через силу, начала она. – У меня было одно платье. Я его вечером стирала, а утром надевала и шла на работу.
Работала на фабрике, где делают бисквиты. Нужно было поднимать тяжелые ящики, – она умолкла, казалось, задохнулась от горя.
– Не нужно, не нужно больше вспоминать, – я крепко закусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться.
Она печально покачала головой:
– Девочка, тебе трудно будет жить на этом свете. У тебя слишком отзывчивая душа.
Только мне она говорила прерывающимся голосом:
– Иду на свою Голгофу, – отправляясь раз в месяц с раннего утра в ломбард продлевать заклад.
Домашние думали, что этот день она проводит у моря. И, глядя за ужином на ее бледное, осунувшееся лицо, не ведающий ни о чем Михаил Павлович искренне сокрушался:
– Дружок, мне кажется, что эти прогулки к морю тебя очень утомляют.
Иногда, видя по утрам ее, понурившуюся, с красными воспаленными глазами, я осторожно спрашивала:
– Что, снова хрипы?
Она пугливо оглядывалась и молча кивала. Случалось, отрывисто бросала в ответ:
– Опять Михаил.
Две вещи пугали ее чуть не до смерти: хрипы в груди у Клавдии и вызовы в школу к Михаилу.
И еще она ненавидела дни, когда работала посудомойка Ксюша.
Высокая, жилистая, быстрая, как огонь, Ксюша выскакивала с черного хода пельменной, громко хлопая дверью. Вслед ей вырывались тугие клубы пара. Резко взмахнув ведром, выплескивала помои прямо в крохотный палисадник.
– Что вы делаете! – слабо ахала Елена Сергеевна, – вы же цветы губите.
– Цветы? – с какой-то злобной радостью взмывала Ксения. Казалось, готовилась к этой стычке все свои выходные дни, – цветы приехали сюда нюхать?
Она подбоченивалась, готовясь вступить в бой. Но Елена Сергеевна тотчас отступала. Это вначале она пыталась было вразумить Ксению.
– Голубушка, Ксения Петровна! Вы скажите, что мы вам плохого сделали?
Тон у Елены Сергеевны был просительный, искательный. Точно хотела задобрить.
– Кто вас звал сюда? – резала в ответ посудомойка. – Ишь ты баре какие!
В эти минуты мне казалось, что тело мое становится туго натянутой струной.
– За что вас так ненавидят? – однажды, чуть не плача, спросила я, пытаясь заглянуть Елене Сергеевне в лицо.
– Мы здесь – чужие, – со скорбной усмешкой ответила она и ушла в дом.
А рядом, в ста шагах, на чистом дворе, в комнате у тетки, шла другая жизнь.
– Где ты ходишь? – то и дело ревниво восклицала тетка, – что, тебе у этих французов медом намазано? Что, у тебя дома нет?
Обычно я отмалчивалась, но однажды, не сдержавшись, дерзко бросила в ответ:
– Я же не указываю, с кем тебе чаи распивать. Твоя Сойфертиха не вылезает от нас.
– Как ты можешь сравнивать? Она же наша, – неожиданно вспыхнула всегда кроткая тетка.
– Наша? – Я нарочито удивленно вскинула брови и презрительно усмехнулась. Мысль о том, что меня связывают с этой неуклюжей коротышкой Сойферт, которая то и дело повторяла? «Нашим врагам на голову наши цорес», – какие-то таинственные тесные узы, казалась оскорбительной.
– Наша, наша, – со значением повторила тетка. – У тебя, я вижу, короткая память. Ты уже забыла то добро, которое сделали нам эти люди. Кто нам помог в тяжелую минуту? Думаешь им, – тетка неопределенно кивнула в сторону открытого окна, за которым кипела жизнь двора, – есть дело до нас? До нашего горя? Утопят в ложке воды, и глазом не успеешь моргнуть. Мы, евреи, должны крепко держаться друг за друга.
– Мы! Евреи! – перебила я тетку и засмеялась злым, едким смехом. – Я знаю наперед все, что ты мне скажешь. Как мне надоели твои вечные страхи. Твое вечное нытье. Запомни – у нас все равны!
И я такая же, как все! – крикнула тетке прямо в лицо.
– Как все, – тихо повторила она. Внезапно глаза ее налились слезами. Она горестно покачала головой:
– Когда началась война, мужчин сразу забрали на фронт. В доме остались я, моя мама и бабушка, которая уже год как не вставала с постели. А потом заболела мама, и все упало на мои руки.
Тетка выбросила вперед покрытые густыми рыжими веснушками руки и несколько секунд пристально смотрела на них. Потом нагнулась ко мне и горячо зашептала:
– Раньше ты была маленькая. Я не хотела тебе этого говорить.
Но у твоего деда есть женщина. Ее зовут Ривка. Ты знаешь?
Тетка подозрительно посмотрела на меня. Я тотчас в смятении опустила глаза, покраснела и отрицательно качнула головой.
Тетка на минуту задумалась. Потом смущенно, скороговоркой пробормотала:
– Он к этой Ривке ходил еще до войны. При маминой жизни.