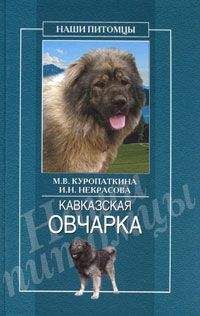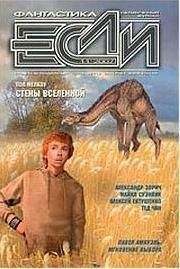Дина Калиновская - Повести и рассказы
— Ты помнишь, — говорила она тете Ясе, — как они нас не пускали? — Имелось в виду, что мужья отговаривали их эвакуироваться.— «Через две недели все закончится, вы только намучаетесь с детьми, как мокрые курицы!» Помнишь, что они нам устроили, наши умники? «Куда? Зачем? Глупость!» Яська, что бы с нами всеми было, если бы не я? То есть если бы не военком!..
— Погибли бы в гетто, — говорила тетя Яся. — Не сомневайся!
— В том-то и дело! Я вошла в кабинет с Мурзинькой на руках, а Симка тащилась рядом, я влезла в кабинет вместе с какими-то военными, военкому только взглянул на меня и сразу все понял. Он сказал: «Уезжайте, мадам!» Он даже ни о чем не спросил, а сразу выдал талоны. Я тут же ему поверила. — Маруся всегда больше верила чужим, чем своим.
Итак, муж тети Яси не разрешил тете Ясе тащить в .эвакуацию бесполезный багаж. Столовое серебро с монограммами от варшавского мастера — «Только чтобы была спокойна!» — зарыл в чулане их довоенной полуподвальной вартиры с грядками маргариток в палисаднике под окнами, которые разводил сам. Лучше бы он зарыл в маргаритках, тогда однажды ночью можно было бы разрыть...
Там были новые жильцы. А тетя Яся, вернувшись из Ташкента, оказалась на другом конце города в комнате с видом на глухой забор, но зато с тайной зарытого клада в сердце. Кто-то, кому можно было бы довериться, должен был однажды, а лучше в праздник, спокойно войти в их довоенный подвал и вежливо, но непререкаемо заявить, что намерен немедленно разрыть пол в чулане с целью, которая нынешних хозяев не касается. Такого человека не было. За такого человека, пусть бы он только появился, следовало выдать замуж Нелю.
— Просыпайся, засоня, давай чай пить! — позвала Маруся, заметив, что Серафима не спит. — Просыпайся, скоро придут они! (То есть маляры.) Возьми письмо на столе, там для тебя опять есть твои глупости! (То есть письмо от Мурзиньки с дурацкими фамилиями.)
— А, здрасьте вам! — сказала тетя Яся, когда Серафима наконец открыла глаза. — Какие новости?
Серафима уселась по-турецки на диване — проснулась окончательно. Солнце уже повернуло на эту сторону улицы, большими квадратами расчертило предремонтный бедлам. Ободранные стены, звонко освещенные, пятнистые, в своей обнаженной непрезентабельности странно радовали, как вызов, как протест перед любым камуфляжем.
— Мама! — сказала Серафима. — Вас не учили в гимназии, как звали Вяземского, друга Пушкина? А?
— Князя Вяземского? — переспросила Маруся. — Не помню. Кажемся, Петр Андреевич... Нет. Не уверена.
— Сойти с ума! — сказала Серафима.
— В чем дело? — спросила Маруся.
— Мне Пушкин приснился!
— У тебя в ванной с вечера что-то мокнет, стирать будет Пушкин? — ответила Маруся.
— И папа, — сказала Серафима. - Папа тоже приснился.
— Это он может — сниться!.. — отозвалась Маруся.
Команда сторожевого катера «Сарыч» потрудилась на этот раз неплохо. Фамилии были распределены по группам. Фамилии были пиратские: Пиастров, Чернофлагов, Петлянареев. Фамилии были ихтиологические: Акулькин, Тюлькин и Бычков-Камбалакчи. Фамилии были котельные: Варивода и Гонипарко — в общем, ощущался размах.
«Мне здесь хорошо, — писал Мурзинька, — Кормят хорошо, и спать хорошо тоже».
Это был юмор. Так он начинал все свои письма из детского дома — Марусе было не прокормить двоих детей в первые послевоенные годы.
Маруся и тетя Яся пили чай, устроившись вполне уютно среди ремонтного разгрома, — крахмальная салфетка поверх газет, которыми был укрыт перед побелкой стол, фарфор и серебро, печенье и варенье. Тетя Яся задумчиво вертела в руке одну из последних двух ложечек с монограммами от варшавского гравера, она держала ее двумя пальцами за самую тонкую часть черенка, и монограмма поворачивалась то к ней, то к Марусе. Тетя Яся любовалась своей игрой, и Серафима с Марусей понимающе переглянулись — пришла пора к приходу тети Яси прятать и чайные ложки.
— Ну что, Маруська, — вдруг произнесла тетя Яся и мягко склонила голову к плечу. — Замотала мою чашку?
Маруся вскинулась, прихлопнула ладонью по столу:
— О, привет! Наша песня коротка, начинай сначала!
— Тетя Яся, — вмешалась Серафима, — мы чашку решили не отдавать, это твердо. Ответьте-ка мне лучше на серьезный вопрос, мои уважаемые, я спрашиваю: как звали вашего прадеда по материнской линии?
— Что? — переспросила тетя Яся, она думала о своем, о чашке конечно. — Кто это может знать?!
— Если я не помню, как может помнить Яся? — сказала Маруся, намекая на то, что если бы у тети Яси были способности, то ее бы, а не Марусю некогда определили бы в гимназию, она бы, а не Маруся провела бы юность в губернском городе среди образованной публики, за нее бы, а не за Марусю платили бы в казну нелегких пять рублей золотом каждый год за нравоучение.
— Хорошо, — сказала Серафима. — Тогда я поставлю вопрос иначе. Мне нужно отчество вашей родной бабушки. У нее ведь должно быть отчество! N. G. — это я знаю, Нехама Гордон, очень красиво, особенно латинскими буквами. Но отчество?
— Отстань! — В присутствии тети Яси Маруся заметно успокаивалась. — Делать тебе нечего! Кому это нужно - родословная? Кто мы — князья?
— Мы не бараны все же!
— Отчество Нехамы ей надо! — отмахнулась Маруся. — День рождения Нехамы тебе не нужен? Пей чай! — И Маруся окончательно отвернулась к тете Ясе с лицом, выражающим просьбу о сочувствии. Вот так, выражало лицо Маруси, я живу. Целыми днями одни глупости. — Ты слышала новость? Она хочет в Москву! Она хочет там поселиться!
— Я слышала новость, — ответила тетя Яся. — Я бы на ее месте не теряла времени!
— Конечно! — подхватила Маруся. — В ее годы следует думать о будущем!
— Да! — воскликнула тетя Яся. — Молодец! — похвалила за догадливость. — А будущее женщины — что? Будущее женщины — дети. Но тот, — медленно стала она объяснять, чтобы окончившая гимназию Маруся успевала соображать и усваивать, — от кого она хочет детей, а значит, может иметь их; тот, от кого эти дети родились бы удачными и мы могли бы их не стыдиться, как нарочно живет в Москве! Вот и все. Так просто!
— Ерунда! — сказала разочарованная Маруся. — Если бы это было хоть на один процент так!.. Никого у нее в Москве нет, даже знакомых. Она однажды ездила туда — приехала зеленая от устало сти, никому она там не нужна. Но смириться с этим она не желает!
— Они просто не встретились, Маруська! Они ищут друг друга, но пока не встретились! Я уверена, что он хочет сюда, к нам в Одессу! Просто умирает! Он думает, что Одесса — лучший в мире город, а она — наоборот! Она слышит его тоску, закон природы! И никого не переубедишь.
— Прекрати! — закричала Маруся. — Она и без того сумасшедшая!.. Ты для чего сюда пришла? Посмотри на нее — кто она тебе, чужая? Почему ты хочешь сбить ее с толку? Пусть Неля едет! Нелю ты от себя никуда не отпускаешь!
— Нелька — другая, — с улыбкой ответила тетя Яся, она была спокойна, как человек, сделавший открытие и знающий ему цену. — Нелька не имеет желаний. Что, все одинаковые?
— Яська! — кричала Маруся. — Не забивай ей голову, она у нее и так не на месте! Подумай, артистка, кому она нужна в Москве? У нее даже нет зимнего пальто!
— Тому, — ответила тетя Яся, не потеряв вкрадчивости, — от кого родит детей.
— Все ненормальные! — махнула рукой Маруся и отошла к окну. У другого окна Серафима пришивала пуговицу к лифчику.
— У меня там никого нет, тетя Яся, — сказала она.
— Если вы с ним еще не знакомы, это не значит, что вас нет, дорогие дети! — весело ответила та.
И все замолчали.
О чем думала Маруся у окна? Почему от одного вида молоденького часового в форме и с ружьем перед тяжелой входной дверью мореходного училища она успокоилась? Но вот она обернулась, и Серафима встретила ее взгляд. Это смотрела Маруся, которая ни разу в жизни не опоздала на работу. Это была Маруся, вырастившая двоих детей, вдова погибшего на фронте кормильца. Это была Маруся, спокойно уверенная, что государство всегда начеку и не даст свою безупречно честную Марусю в обиду. Она не сказала им, дочери и сестре, что в Москве трудно с пропиской.
— Пусть едет, — согласилась она негромко и вернулась к столу. — Она хочет в Москву — это чудно! И кто ее здесь держит? Она решила — и молодец. Катись, дорогая! Теперь остался пустяк, сущая мелочь, надо спросить у графа Потоцкого. Если он согласен, кто будет возражать?
В хорошей оперетте после подобного монолога последовала бы соответственная ария. В ней пелось бы о необозримых далях, о лесе за рекой, о невозможных закатах и невообразимых рассветах именно в том месте земного шара, где пел соловей ранней юности и плескалась в бесшумной реке золотая рыбка первой любви. И где однажды над рекой в карете, запряженной на польский манер шестеркой белых лошадей, проехал о н, направляясь в столицу... Ария оборвалась бы, никакие слова и никакое пение уже не давали бы выхода чувству из переполненной восторгом воспоминаний души, а спасти положение мог бы только танец.