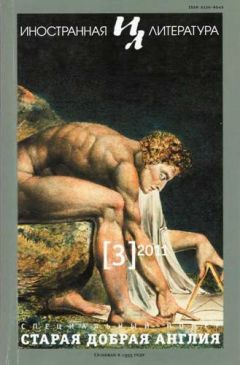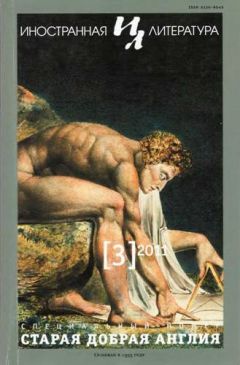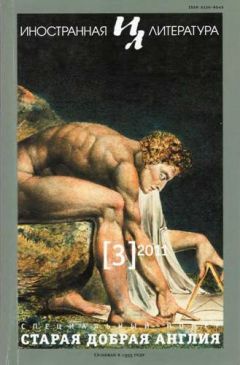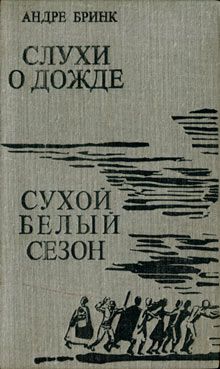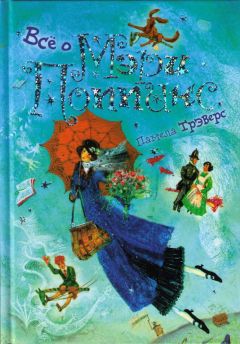Андре Бринк - Сухой белый сезон
И вот лидеры АНК собрались в Питермарицбурге, чтобы сделать последнее предупреждение властям — призвать правительство начать публичное обсуждение нового проекта конституции. В протйвном случае они намеревались объявить в конце мая трехдневную забастовку черного населения по всей стране. И вновь они взывали к глухим. Ответом на их призыв были новые репрессии, на период с девятнадцатого по двадцать шестое июня запрещены все собрания, по всей стране прошли полицейские облавы, еще около десяти тысяч африканцев было арестовано, воинские подразделения разогнали демонстрации в негритянских гетто. Тогда и началась новая эра борьбы — эра вооруженного сопротивления.
Я тоже мог бы многое сказать о Шарпевиле. Эти события произвели на меня столь же гнетущее впечатление, еще более усугубленное тем, что я узнал о них, находясь в длительной европейской поездке. Когда все это произошло, я был в Лондоне. Я видел толпы протестующих демонстрантов на Трафальгар-сквер. В каждом новом выпуске газет сообщалось об ухудшении ситуации. Казалось, что вся Южная Африка объята пламенем.
Некоторые из моих английских знакомых говорили:
— Вам повезло, что вы не там, не на бойне.
Но я прервал деловые переговоры и первым же самолетом улетел на родину. Даже если всем нам суждено погибнуть, думал я, я хочу погибнуть вместе с моим народом. Это было, пожалуй, самое нелогичное решение в моей жизни. Тем не менее полагаю, что в подобных обстоятельствах я и сейчас поступил бы так же. Хочу в это верить.
Я не собираюсь отрицать наличие серьезных недостатков в нашей системе. Но я считаю, что правительство, поддающееся в таких обстоятельствах шантажу, неизбежно обрекает себя на поражение. Я не могу понять людей, которые, как только что-то случается, принимаются утверждать, будто вся вина лежит на нас, белых. Если мы пойдем на уступки без всяких ограничений и не задумываясь о последствиях, то лишь подтвердим эту точку зрения. Предположим, что требования демонстрантов будут удовлетворены, — где гарантия, что они не запросят еще большего? Прежде чем приступить к каким-то изменениям, следует восстановить законность и порядок, без которых невозможно движение вперед. А в тот момент единственным средством восстановления законности и порядка были насильственные Действия.
Мне очень больно, что Бернард не хотел трезво посмотреть на положение дел. По-моему, ему так и не удалось излечиться от юношеского романтизма. А в подобной ситуации романтизм неуместен.
В конце затяжного процесса в Йоханнесбурге я как-то вечером подвозил одного старого негритянского лидера АНК к нему домой в Александра-тауншип. По дороге я изложил ему все ту же теорию, согласно которой разделение рас уменьшает трение между ними и вероятность конфликта. Его ответ был чрезвычайно прост. Если разделить народ на два лагеря, сказал он, и прервать контакты между ними, в каждом лагере скоро забудут, что в другом живут такие же люди, что они так же радуются и горюют, веселятся и печалятся — и по одним и тем же причинам. В каждом лагере будут расти подозрительность и страх, а они — основа расизма. И он добавил: «Как повели бы себя африканеры, если бы мои люди сказали им: с сегодняшнего дня вы можете жить только в Оранжевой провинции, но не добывая там ни угля, ни золота. А если вы захотите поехать в другую часть страны, вам придется обзавестись специальным пропуском. Вы не имеете права посещать наши школы, университеты, рестораны и театры. Вам разрешат работать на наших предприятиях при условии, что семью вы оставите дома, а жить будете в лагерях; вас не поставят на квалифицированную работу, и за все это вы еще должны считать себя облагодетельствованными и помнить, что вас могут изгнать отсюда, стоит нам сказать слово…»
5
Как только мы отъехали от Блумфонтейна, солнце зашло и сразу стало совершенно темно, без всякого перехода от сумерек к ночи.
— Проголодался? — спросил я Луи.
— Не слишком.
— Может быть, остановимся в кафе у Аливала?
Он кивнул.
— Тебе, наверное, частенько приходилось голодать в Анголе?
— Бывало.
Мне захотелось как следует встряхнуть его, чтобы вывести из состояния замкнутости. Но разве это поможет? Сначала нужно как-то расположить его к себе. Может быть, обнять за плечи? (Последний раз такое желание возникло у меня той дождливой ночью, когда в мою машину сел Бернард.) Но с Луи эффект будет, скорее, отрицательным. Кажется, я не дотрагивался до него даже случайно многие годы. Мне почему-то неприятен физический контакт с людьми. Женщины, разумеется, исключение. И то до известной степени. Пока мы в постели, все в порядке, у меня нет никаких ограничений. Но как только мы покинули постель, все эти поцелуи, объятия, держание за руку мне невыносимы.
— Все-таки мы проехали уже больше половины пути.
— Да.
Стиснув зубы, я посмотрел на часы на приборном щитке. Без трех шесть. Я включил радио. Какая-то дурацкая музыка. Но и она прекратилась. Сигнал времени. Часы идут секунда в секунду, отметил я с удовлетворением. Новости читал молодой диктор с оттенком самодовольства в голосе, весьма неуместным. Новые волнения в Бейруте. Фунт по-прежнему падает. Верховный суд в Претории признал Бернарда Франкена виновным в тринадцати нарушениях Закона о борьбе с терроризмом и Закона о подавлении коммунизма и приговорил его к пожизненному заключению. Судья Россау, оглашая приговор, отметил, что и смертная казнь была бы вполне оправдана в виду тяжести совершенных преступлений.
Зачем я включил радио? Пожалуй, чтобы удостовериться. Иногда отказывает чувство реальности. Но здесь не может быть никаких сомнений. Я выключил радио и включил магнитофон. Моцарт в исполнении Ингрид Хеблер.
После приговора в зале зазвучало Nkosi sikelel’ iAfrika. Странное мгновение полного оцепенения, и только Бернард стоял улыбаясь, удивительно спокойный, словно его одного это ничуть не касалось или одного его совершенно устраивало. Потом полиция стала очищать зал от публики. Но и тогда пение не смолкло: пели в вестибюле, у входа, на площади, где большая толпа окружила памятник Крюгеру, пели Nkosi sikelel’ iAfrika.
Что же касается тех, кто свидетельствовал против меня, включая моих прежних клиентов и друзей, то я не собираюсь ни стыдить, ни упрекать их. Я не знаю, при каких обстоятельствах они согласились выступить. Могли быть компрометирующие их факты, известные властям, есть, кроме того, определенные методы давления, применяемые тайной полицией, — методы, посредством которых человеческая личность унижается и уничтожается. Это общеизвестно, и это позор для нашей страны. В свете всего этого настоящий суд может предположить, насколько правдивы такие показания. Достаточно напомнить суду о самоубийстве одного лица, принуждавшегося к даче показаний против меня, человека, о котором никто из знавших его не мог подумать, что он когда-нибудь лишит себя жизни, и о двух покушениях на самоубийство среди тех лиц, которые в итоге предстали здесь свидетелями обвинения. В подобных обстоятельствах можно утверждать, что юстиция утратила свое предназначение, что правосудие подменено инквизиторскими методами следствия, приводящими к полному закабалению человека.
Даже если вы приговорите меня к смерти, я не стану просить о помиловании. Я действовал, полностью осознавая возможные последствия и во имя свободы большей, чем свобода отдельного индивидуума. Я отдаю себя в ваши руки. Я не боюсь ни тюрьмы, ни смерти. Теперь уже ничто не в силах отнять у меня мою свободу.
Действительно, на этом суде было достаточно «драматических» коллизий, на которые падки журналисты. Для правильной расстановки акцентов, вероятно, следует изложить здесь официальную часть биографии Бернарда, которая общеизвестна.
Когда Бернард сказал мне в те давние времена, что он сжимает кулаки, это не было пустой фразой. В 1965 году он взялся за свое первое политическое дело: защиту четырнадцати человек, обвиняемых в антигосударственной деятельности, организации саботажа и направленной против белых агитации. Это был один из тех судейских марафонов, которые тянутся больше года. (В начале процесса Бернард жил у нас, но затем, несмотря на все наши уговоры, не захотел «обременять» нас и снял квартиру, хозяин которой, университетский преподаватель, находился в то время на стажировке за границей.) В конце концов всех обвиняемых оправдали. В юридических кругах это считалось триумфом Бернарда. (За пределами этих кругов реакция на его успех была куда менее приятной. Со дня вынесения приговора он то и дело находил свою машину с проколотыми шинами или разбитыми стеклами, его дом на Тамбурклоф неоднократно подвергался нападению, на дверях кто-то рисовал серп и молот, а однажды ночью в окно его спальни бросили зажигательную бомбу, по счастью не причинившую никакого вреда. И конечно же, ни одного из хулиганов не поймали.)