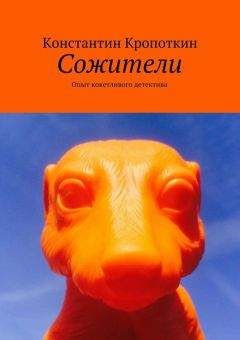Илзе Индране - Камушек на ладони. Латышская женская проза
— Нечего делать, — городской голова поставил точку в споре, — если мы не хотим из-за поставок песка пожертвовать древнейшей, исторически самой важной частью города, если не хотим, чтобы карьер, расползаясь, выгрыз фундаменты домов и постепенно съел концентрические круги ближайших к нему улиц, надо продлить подземный туннель.
Поднялся недовольный шум.
— Да, я знаю, — продолжал он, — туннель будет стоить огромных денег, но мы должны осознать, что только обеспечение непрерывности трудового процесса даст городу возможность существовать. Пока продолжается наплыв туристов, мы будем жить. Если здесь не на что будет смотреть… — и он выразительно вздохнул. — Кроме того, придется думать о расширении туннеля, а именно, о двойном, двухполосном туннеле, — коммуникации, поставки продовольствия, инвентарь… Ну, не стоит перечислять, все вы знаете, что существующий нас не устраивает… — Он развел руками.
— Переходим к следующему вопросу повестки дня — кадровые резервы.
— Только не руками, руками не надо, — работница музея тщетно старалась урезонить посетителей. Похоже, придется говорить о возрастных ограничениях — нижний рубеж в четырнадцать лет никуда не годится, — даже и пятнадцатилетние еще полные невежды, у них глаза словно к кончикам пальцев приделаны.
— Да, все шляпы, которые вы здесь видите, служили хорошо нам известной цели. Все, все. Других здесь нет. Вам кажется, что много? Но представьте себе… Посмотрите в окно на гору! Как долго можно пользоваться одной шляпой? Да, вы правы, это зависит от прочности ткани, и шляпы здесь действительно разные, но учтем, что все они так или иначе из ткани!
— Да, музей вскоре придется расширить, вы правы… Вопрос этот будет решать городская дума. Шляпы ведь все время поступают, очень часто поступают…
— Когда будет закончено? Да что вы, дети! Разумеется, никогда! По крайней мере, в нашем понимании. В понимании смертных людей. Это — вечный труд, разве может закончиться, скажем, идея? А, дети? Символ, это, дети, символ, — вас ведь учили в школе, что это значит? Разве у символа может быть конец? Ни конца, ни края нет у символа, дети. Это тот случай, когда мы встречаемся с дыханием вечности, с гимном вечности и нескончаемому победному шествию человека ей навстречу…
Первые грубые капли дождя приятно охлаждали спину. Хотелось распрямиться, чтобы наслаждаться бегом ручейков по лицу, но тогда пришлось бы смотреть на то, чего видеть не хотелось, — однажды на какой-то миг утратив осмотрительность, он заметил, что «они» не исчезают и в дождливое время, — над толпой поднимались грибы зонтов, из-за чего она казалась еще больше и пестрее — словно раздулась и стала монолитной.
Лило все сильнее.
Надо было удирать. Человек побежал под тростниковый навес — единственное, что сохранилось из сделанного им.
Лило ливмя. С горы вниз зигзагами сбегали узкие ручейки, они вгрызались в глубину, сливались, чтобы разлучиться и ниже слиться опять. Равнодушным взглядом он смотрел, как гибнет его работа.
Не будь у него столь большого опыта, он встревожился бы, ибо каждый такой ливень уничтожал по крайней мере недельную работу. А порой и куда больше.
Но опыт научил не карабкаться вверх, не бегать, не хватать, не грести, он заставил запомнить, что нет смысла кричать, орать, что нечего рвать на себе волосы: время — это единая безграничная сущность. И для него оно не прервется никогда.
Опыт сделал разум спокойным и глаза пустыми. Надо было ждать конца ливня.
И опять работа. Человек двигался достаточно проворно, чтобы его не могли упрекнуть в лени — непрестанное движение не входило ни в письменный, ни в облеченный в устные слова договор. И договор так или иначе не имел никакого смысла — обе стороны понимали друг друга без слов. Его заботой был только труд, все необходимое — жилище, пищу, воду, одежду, орудия труда, а в последние десятилетия часто и песок — поставляла вторая сторона. Его заботой был только труд, и раз уж условия такие выгодные, прекращать работу нельзя ни на минуту.
Это не было проворным снованием муравья, как могло показаться наблюдавшим с края карьера, — человек двигался, как большое, медлительное, неуклюжее животное — вперед и назад, вперед и назад… «Вперед» одновременно означало «вверх», «назад» выходило «вниз» — со шляпой за новой порцией песка. Вверх — вниз, вверх — вниз…
Гора постепенно росла. Безусловно — росла. Иначе и быть не могло, если учесть не прекращавшееся движение вверх — вниз. Иллюзия одновременно была действительностью, вечность процесса гарантировала ночь — тьма во все времена служила прикрытием тому, что не предназначалось для чужих глаз. Непричастным к делам тьмы.
И этого не знал ни один человек в той стране — сколько большое животное наносило за день, столько ночью прилежные руки гномов сгребали вниз. Так длилось уже давно, однако об этом не говорили, этого не упоминали, не видели… И как можно говорить о том, чего никто не знал? Никто не был свидетелем работы гномов, и гномы только ночью были гномами. Кем были они днем, не знали даже они сами, потому что днем их вовсе не было. Поэтому не было ни тех, кто спросил бы, ни тех, кто мог дать ответ.
Думали о хорошей видимости и оптимальной эстетической норме. Об этом заботились городские «зеленые», которых в свое время не на шутку обеспокоила возможность превращения всей земли в бесплодную пустыню. Хорошо, что это предотвратили, и вдоль края карьера пышно, стеной разрослись вечнозеленые туи, их своевременно подрезали, что тоже служило доброй славе государства — нельзя же забывать, что сюда приезжают гости даже из дальних заморских стран. Пейзаж должен быть в порядке.
Он трудился, не разгибая спины. Вверх — вниз. Вверх — вниз. За долгие годы скопились кое-какие маленькие хитрости, наладилась малая механизация, если можно так выразиться. Так, разумеется, нельзя сказать, ибо это не имело ни малейшего отношения ни к какому железу, что подразумевает слово «механизация», — это была разумно, виртуозно отработанная техника труда.
Самым большим его достижением было открытие, что на вершине горы не следует поворачиваться, тогда не придется возвращаться носом вниз, рискуя упасть; к тому же на поворот впустую тратилась энергия! — и он приспособился путь вниз проделывать пятясь, да так, чтобы, спускаясь от вершины, постепенно лучеобразно обходить гору вокруг. Таким образом она вставала красивым правильным конусом, а ровно примятый песок вокруг нее создавал впечатление вечной ухоженности. Культура труда, одним словом.
Солнце достигло своей полуденной точки.
Над раскаленной песчаной сковородой воздух от дыхания скручивался в трубочки мерцающего пламени, которые трепетали перед глазами и жгли сухое горло. Рот хватал танцующий воздух, тот убегал, уклонялся, а человек вовсе не был пожирателем огня.
Но рот хватал все быстрее, все более алчно, воздух плясал в ускоряющемся бешеном и беспорядочном ритме. Воздух заигрывал с ним.
Человек склонил голову в ту сторону, где должна рябить стая пестрых птиц. Их не было. Наверно, наступил час вымерших от жары птиц.
Человек повернул голову еще дальше. Скрипел песок в основании черепа.
Человек обратил лицо вверх и, уперев руки в колени, стоял так, сколько позволяла нарезка шеи с застрявшими в ней песчинками.
И на самом верху тоже никого не было.
Шея быстрым движением свинтилась назад. Заскрипел песок. Голова, словно пустая, качнулась в одну, в другую сторону, потом, нацелив нос на мыски прорезиненных тапок, замерла в привычном положении. Опираясь на колени, он начал последнее утреннее восхождение — обед следовало заслужить, нельзя так, после минутного отдыха, тут же отправляться обедать. Последний спуск, и человек, так же не поворачиваясь, исчез. Как крот в норе.
Жилище было совсем простым — чтобы не испортить впечатления непрерывного процесса работы, оно было скрыто от чужих глаз, выстроено под землей, но достаточно удобно для пары часов отдыха днем и для ночной тьмы.
Человек сел на чурбан — чурбан был вытесан по воображаемому первобытному образцу — и открыл совсем не первобытную банку консервов. Пальцы слушались плохо. Он задумчиво посмотрел на свои руки, раза два согнул и разогнул пальцы — выпрямить их совсем больше не удавалось. Нелегко было есть, одеваться было нелегко, но в остальном ничего — его уже давно не слишком волновало все, что не касалось работы. Однако и переодевание было достаточным поводом для того, чтобы два раза в день испортить настроение — но ведь надлежало быть чистым и опрятным, иначе превратишь свое государство в посмешище. По туннелю прибыла очередная посылка с одеждой и едой, с новыми шляпами, все это он выгрузит позже; когда поест, можно будет на мгновение вытянуться, полежать…